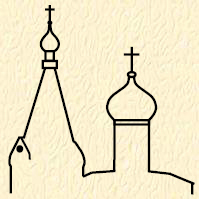|
Христос (Кристоф) Яннарас
Вариации на Песнь Песней
1. Ouverture
Возлюбленный мой повернулся и ушел.
Души во мне не стало, когда он говорил.
Мы узнаём любовь только с расстояния неудачи. До неудачи нет знания;
знание всегда приходит после вкушения плода. В каждом опыте любви вновь
оживает вкус рая и его утрата. Мы научаемся любви, только будучи
изгнаны из даруемой ею полноты жизни.
В опыте любви все мы словно созданы впервые: чужой опыт не научает
ничему. Для каждого из нас она есть самый первый и самый большой урок
жизни, самое первое и самое большое разочарование. Самый большой урок,
потому что в любви мы научаемся способу жизни. И самое большое
разочарование, потому что этот способ оказывается недостижимым для нашей
человеческой природы.
Наше человеческое естество (этот трудно определимый сплав души и тела),
с поразительной проницательностью глядя дальше понятий, «знает», что
полнота жизни коренится только во взаимности отношения, во взаимной и
всецелой самоотдаче. Именно поэтому оно облекает в любовь всю свою
бездонную жажду жизни – жажду тела и души.
Мы жаждем жизни; а ее возможность рождается только из отношения с
Другим. В лице Другого мы взыскуем самой возможности жизни – взаимности
отношения. Другой становится «знамением» жизни, видимым ответом на
самое глубокое и властное стремление нашего естества. Быть может, то,
что мы страстно любим, – не личность Другого, а наша собственная жажда,
воплощенная в его личности. Быть может, Другой – только предлог, а наша
самоотдача – самообман. Но и это прояснится лишь с расстояния неудачи.
После неудачи мы знаем, что любовь есть способ жизни – но способ,
недостижимый для нашего человеческого естества. Наша природа отчаянно
жаждет отношения, не умея существовать способом отношения. Она не умеет
раздавать себя, пребывать в общении; она может лишь присваивать жизнь,
владеть и пользоваться ею. Если вкушение полноты есть жизненное общение
с Другим, то напор нашего естества отчуждает общение, вытесняет его
притязанием владеть Другим как собственностью. Потеря рая – не кара, но
самоизгнание.
Способ жизни мы всегда постигаем как потерянный рай. Мы ощущаем его как
лишенность, как печать отсутствия. След способа жизни запечатлен в
наших душах горьким одиночеством не знающей любви отчужденностью.
Привкусом смерти. Этот привкус сопровождает тебя всю жизнь. Нужно
завербоваться к смерти, чтобы на одном корабле с нею пройти целую жизнь
и лишь тогда понять, что означает полнота отношения. Лишь тогда ты
различишь вдали очертания понятия «жизнь»: оно означает, что ты
отрекаешься от собственных притязаний на жизнь ради жизни Другого; что
ты живешь лишь постольку, поскольку отдаешь себя, дабы принять
отдающего себя Другого. Что ты не просто существуешь и вдобавок любишь,
но лишь потому и существуешь, что любишь, и лишь в той мере, в какой
любишь.
Мы жаждем жизни, но не умом и даже не волей: мы жаждем ее телом и душой.
Стремление к жизни, посеянное в нашей природе, оплодотворяет каждую
частицу нашего бытия: неудержимое стремление к отношению, к событию,
стремление стать одним с пред-метной сущностью мира – с красотой земли,
безбрежностью моря, сладостью плодов, благоуханием цветов. Одним телом
с Другим. Другой есть единственная возможность обрести взаимность в
нашем отношении с миром. Другой – это лик мира, слово каждой
пред-метной сущности. Слово, обращенное ко мне, зовущее меня к
универсальности со-бытия. Оно обещает мне целый космос жизни,
невыразимую красоту. целостности. Обещает в отношении.
2. Modulatio
Возлюбленный мой принадлежит мне, а я ему; он пасет между лилиями.
При первом знаке взаимности рождается бездонное блаженство, пьянящее
чувство полноты жизни, целый мир, даруемый во взгляде, в улыбке Другого.
Обыденное существование преображается в мгновенной вспышке, словно в
откровении; и Другой становится средоточием этого откровения. Взаимность
любви есть первое чувство людей в первый день творения.
Любимый взгляд дает мне ощутить, что такое глаза человека. Ласка учит
читать по складам на неведомом дотоле языке прикосновений. Малейший
жест, неуловимое телодвижение, мимолетная улыбка – словно речь, впервые
услышанная и захватывающая в своей значимости. Всякая вещь, которой мы
вместе касаемся, всякая вместе увиденная красота, всё, к чему
приобщаемся, – всё становится тем самым единственным мгновением, всегда
новым и непреходящим. Больше нет пред-метов, всё есть присутствие и
самоприношение, адресованное только мне, предназначенное только для
меня. Всё обретает бытие и делается сущим, потому что существует
Другой. Самые ничтожные и очевидные вещи становятся неожиданным даром.
Когда рождается любовь, рождается жизнь. С изумлением мы чувствуем, как
нищета биологического существования вдруг преображается в богатство
жизни. Рутина будней превращается в праздник, ибо теперь повседневность
воплощает в себе взаимность отношения. Время перестаёт быть прошлым или
будущим, пространство – ближним или дальним. Время есть только
настоящее, пространство – только непосредственность присутствия.
Непротяженное пространство близости Другого, вневременное время
длящейся полноты взаимной самоотдачи.
Первый знак взаимности, подаваемый Другим, притягивает к себе всё наше
естественное стремление к жизни – стремление, не знающее удержу и меры.
Мы живем только для Другого и благодаря Другому. Всё отдаем, всё ставим
на карту: любую надежность, любые гарантии, узы долга, доброе имя,
авторитет и репутацию, дружеские отношения и надежды. Ради того, кого
любим, мы готовы на всё, даже на смерть.
3. Appoggiatura
Избили меня, изранили меня, сняли с меня покрывало…
Все они держат по мечу, опытны в бою.
Крушение происходит внезапно, но – всегда чтобы уничтожить чудо. «Порча»
незаметно вкрадывается в жизнь, словно змей в кроны райского сада.
Какой-нибудь мелкий промах Другого, оплошность, неверный шаг, тень
неискренности, недостаточная готовность ответить на мою жажду – и глазам
моим внезапно предстаёт откровение наоборот: Другой вдруг оказывается в
дальней дали, в плену пространства и времени. Он далеко – и больше не
тот, кем был. Рядом с моим страстным желанием жизни он кажется слабым,
нерешительным, скупым. И вместе с ним внезапно умаляются все вещи,
вновь становясь пред-метами, обретая протяженность и тяжесть.
Если мы любили по-настоящему, если нам была дарована хоть крупица
подлинной самоотверженности – тогда, быть может, уже при первой ссоре
мы заметим и собственную неправоту. Тогда в изумлении перед зияющим
разрывом, мы со страхом обнаружим множество собственных промахов,
бестактно выраженных желаний, неискренность, скупость в ответ на жажду
Другого. И кажется невероятным: неужели такова была моя любовь? Неужели
это я оставил пустоту одиночества в душе Другого, которого так безмерно
люблю и желаю? Неужели непреодолима стена, воздвигнутая между
влюбленными модусом естества, броней моего «я»?
Но чаще всего мы не видим в себе никакого изъяна. Предатель любви –
только Другой. Он сыграл со мной злую шутку: брал больше, чем давал. Я
начинаю измерять и взвешивать; и подсчеты всегда приводят к тому, что я
оказываюсь в убытке, возмещая его упрямством, придирчивостью,
агрессивностью. Моя преданная нежность обращается в отвержение.
И если Другой обороняется, по праву выставляя собственный счет, – тогда
отношения рвутся с яростным ожесточением. На карту ставятся не мелкие
бытовые интересы, но сама жизнь: всё или ничего. И даже если Другой,
уступая моему натиску, молча отойдет в сторону, израненный и
беззащитный, я уже не способен это увидеть, не способен почувствовать
его боль, но по-прежнему веду учет лишь собственным страданиям. Он не
имеет права горевать; это право есть только у меня.
При первом предчувствии разрыва любовь обращается в отчаянную
агрессивность. Она раздувает прошлые обиды, бередит раны, растравляет
память. Другой – это моя неудача в попытке жить, подтверждение моего
одиночества, мой крест. Быть может, и он тоже бьется, задыхается в своем
леденящем одиночестве. Один ласковый жест с моей стороны, одно нежное
прикосновение, одно доброе слово могли бы вернуть его к жизни. Но я
вижу в его лице лишь собственную пустоту и нахожу в сердце только
жалость к самому себе: меня-то кто расспросит, мою-то нужду и скорбь кто
измерит?
Нет муки сильнее и горше, чем обоюдная ненависть людей, когда-то
веривших, что они всецело и взаимно любят друг друга. Эта ненависть –
всегда вне логики, но логика – ее оружие: каждый со своей собственной
нерушимой логикой неколебимо стоит на своем, уверенный в собственной
правоте.
В этот мучительный тупик закономерно заходит каждая любовь. Это не
просто разочарование – конец чар, которые наводит на нас обманчивое
чувство полноты отношения. Это неосознанная горечь недоступности жизни,
отчаяние от неосуществимости взаимной и всецелой самоотдачи, в которой
только и заключается жизнь. Мы любим и, словно черепахи, не сознаем
своей закованности в прочный панцирь смертности – собственного «я». Чудо
любви каждый из нас переживает в одиночку; Другой – только повод. До тех
пор, пока наши несовпадающие желания не разобьются изнутри о
несокрушимую оболочку.
4. Notes de passage
На ложе моем ночью искала я того, которого любит душа моя, искала его
и не нашла его, звала его, и не услышал меня.
В любви мы знаем, чего хотим, но, похоже, не знаем, что можем. Хотим:
неослабевающего очарования Другого, его непреходящих достоинств, вновь и
вновь вызывающих в нас любовную страсть. Хотим: чтобы он любил нас
безгранично, с неослабевающей силой, причем любил такими, какие мы
есть: любил даже наши ошибки, неудачи и промахи. Любил, а не просто
терпел, самую броню нашего «я».
Наша прямолинейная логика, с ее односторонним движением, подрывает сама
себя. Ведь любовь Другого – единственное средство сокрушить броню моего
собственного «я». Стены самозащиты рушатся сами собой, когда Другой
принимает меня, не укрываясь в собственном панцире; когда я не упираюсь
в его право, логику, остроумие, в его добродетели или потребности.
Притязание любви не мирится с умеренным, частичным, фрагментарным; оно
устремляется к жизни, то есть к полноте отношения. Пусть Другой дает,
прежде чем мы попросим; пусть никогда не ставит нас в положение
просителя, никогда не унижает в нашей нужде или жажде. Пусть он всегда
будет безрассудным, всегда сам делает первый шаг, пусть не ведает
усталости, грусти, безразличия. Мы все этого хотим – но каждый для себя.
И требуем этого во имя любви, чтобы посадить другого на скамью
подсудимых, заклеймить и уничтожить его. Ты говоришь, что любишь меня?
Так где же твоя любовь?
Наша человеческая природа играет со способом жизни в азартную игру.
Лишь обманувшись в любви, мы постигаем способ жизни. Нет любви, которая
не проходила бы через этапы жертвенного самоотречения и всецелой
самоотдачи – этапы подлинной жизни, которыми природа, однако,
пользуется, чтобы обыграть другого, овладеть им как собственностью. С
помощью этого оружия она укрепляет свои права, создает себе плацдарм для
наступления на Другого, если он начнет проявлять независимость,
выдвигать свои естественные требования.
Любовь есть либо жертвенная взаимность, либо страдание и разрыв –
третьего не дано. Компромиссам и всепрощению не спасти любовь, как не
спасти ее и долготерпению. Всепрощение – это всего лишь безнадежность.
Разрыв, напротив, питает надежду на следующее чудо, которое будет
длиться. Следующий Другой примет меня безоговорочно, полюбит
безгранично. Поэтому мне нужен разрыв, резкий и бесповоротный, чтобы
восстать в девственной целости ожидания. И когда появляется следующий
Другой, игра начинается снова, чтобы снова нам оказаться между шестерней
нашего неумолимого естества.
Часто еще не порваны одни «узы», как затевается эксперимент со
следующими, причем с искренностью первооткрывателя – не ради
легкомысленной игры, мимолетного удовольствия. Делаю ставку на жизнь, и
пасовать не годится. Даже ощущая привкус недостижимости, я пойду на
следующее испытание – с открытой и кровоточащей раной от прежнего
разрыва. Мне нужен этот разрыв, потому я и не даю зажить ему своей
неослабной агрессивностью. Нужно, чтобы именно Другой был виновен в том,
что я начинаю новый эксперимент; нужно, чтобы Другой нес
ответственность, – иначе мой эксперимент не оправдается. Агрессивность,
сохранение разрыва дают мне ощущение девственной готовности к тому,
чтобы сделать следующую попытку обзавестись «узами».
Каждая новая любовная встреча несет с собой новую радость и новый
самообман. Всё заново преображается, будни вновь кажутся праздниками –
но только кажутся, потому что в закоулках уже прячет усмешку опыт
недостижимости. Всё вновь становится сверканием праздника, вот только
праздник уже – не чудо, а напряженное выжидание. Как долго выдержит
новый Другой быть «спутником моим и богом моим», как долго удержится
праздник на этом натянутом канате? И когда напряжение вновь разрешится
разрывом, когда любовь и на этот раз обернется тяжбой твоей и моей
правоты, твоей виной и моей болью, – тогда очередное бегство в новую
любовную связь опять подарит надежду, что уж на этот раз она будет
прочной и окончательной. Сизифова пытка жаждой жизни.
Сизифов труд, мучение, принявшее вид бесконечной вереницы всё новых
любовных приключений. Мы, люди, цепляемся за миражи, упрямо закрывая
глаза на реальность, мы не емся увидеть в любви эгоцентрическую иллюзию,
обман чувств. Найдутся ли хотя бы два человека, способные хранить дар
любви в смиренном повседневном старании преодолеть ненасытную природу?
Найдутся ли двое влюбленных, которые среди праздника каждое мгновение
помнили бы об искушениях естества? Возможно ли продлить чудо любви
ежедневной аскезой самоотречения и самоотдачи?
5. Intervallum
Крепка, как смерть, любовь, люта, как преисподняя, ревность.
Неразлучная пара – любовь и смерть: обоюдоострый вызов со стороны
реальности. Дилемма, потому что смерть – не только неизбежный конец. Это
еще и отречение от жизни, даже при сохранении биологического
существования. Вкушая любовь, мы вкушаем жизнь; но всякая не знающая
любви замкнутость в собственном «я» означает выбор в пользу смерти.
Противостояние любви и смерти не ограничивается противоположностью
понятий. Оно устанавливается не по законам «правильного рассуждения», но
вызревает в глубинах жизни, не знающей общения. Жизнь прочитывается по
складам в недолговечной полноте каждого любовного отношения, а в каждой
любовной неудаче проглядывает лик смерти. Когда существование больше не
есть общение.
Единственное, к чему стремится наше существо, – это вожделенное
отношение. Тогда мы говорим о «настоящей» любви. Это жажда жизни, а не
довесок или подпорка биологического существования, не добавка в виде
телесного наслаждения или психологического удовлетворения в данной нам
повседневности. Нам нужно, чтобы изменился способ бытия, чтобы каждый
миг бытия всецело стал отношением. Тогда мы говорим о «настоящей» любви.
Но и все те, кто удостоился «настоящей» любви, в конце концов умирают.
Любовь увековечивает наше естество, но не личностное бытие. Плод самого
высокого и пьянящего восторга жизни – увековечение природы в череде
недолговечных, смертных индивидов. Влюбленные вкушают жизнь, оставаясь
конечными во времени, подвластными тлению, обреченными смерти.
Природа играет с нами краплеными картами, но наше существо упорствует в
первородной наивности. Оно упрямо облекает в любовь свою жажду жизни –
жизни безграничной, беспредельной; свое страстное желание в целости
сохранить уникальность собственной личности, свободной от всякого
умаления или разрушения. Каждый опыт настоящей любви есть утверждение
способа нерушимости бытия. Любовь удостоверяет бессмертие – так может ли
она быть просто иллюзией?
Наше тело, биологический продукт динамичных отношений, есть также
природная уникальность литургического общения. Наша личностная
инаковость – плод динамичной уникальности слов, отношений, участия,
взаимности. Что реальнее – биологический продукт или порождение логоса?
И где проходит разделяющая их граница? Что отличает индивидуальный
характер ДНК от уникальности поэтического слова или музыкальной мелодии?
Чем является для нас субъект бытия – наше сокровенное самосознающее
«я», наша «душа»: конечным биологическим продуктом или бесконечным
плодом отношения?
В любви всегда сосредоточиваются и достигают полноты природные и
логосные следствия отношения. Именно поэтому эрос тоже удостоверяет
инаковость, являет субъекта. Главная струна бытия, нить Ариадны,
выводящая из загадочного лабиринта смертности! Коль скоро сокровенное
самосознающее «я» (или «душа»), являет и удостоверяет себя в любви –
значит, оно существует только как отношение. Когда последние попытки
обороны – телесной и душевной обороны индивидуальной обособленности –
гаснут в полноте отношения, означает ли это начало всецелой любви? Может
ли биологическая смерть быть способом вхождения в непосредственность
жизни?
Мы составляем карту жизни, словно карту неведомой земли, следуя курсом
желания; но живем только в непосредственной близости смерти. Вожделение,
ненасытность, потребность – средства противостояния индивида жизненному
общению. Инстинкт самосохранения, стремление к присвоению, жажда
самоутверждения отчуждают отношение, ограничивают совместное бытие
людей, извращают участие. Они подрывают свободу жизни, противятся любви.
Границы загадочным образом сжимаются. Жизнь не есть биологическое
существование, конец биологического существования не есть смерть. Опыт
любви спутывает понятия. Когда наше сокровенное самосознающее «я» (или
наша «душа») являет и утверждает себя в любви, тогда оно существует
только как отношение. И тогда индивидуальная автономия, не знающая
отношения индивидуальная онтичность, есть смерть. Тогда эрос сражается
со смертью, а смерть – с эросом. Насмерть.
Борьба любви и смерти. Не всегда осознанная – но и не всегда
неосознанная. Если верх взяла бессознательная жажда обладания,
присвоения, использования Другого; если Другой – объект моей собственной
индивидуальной потребности в наслаждении, в самообеспечении и
самоутверждении, – тогда смерть сокрушила любовь. Я остаюсь замкнутым в
одиночестве эгоцентризма, в изолированной и бесцельной потребности
выживания. Жизнь, этот нежданный дар вневременного и безграничного
отношения, ускользает от меня.
Эротическая полнота жизни! И «знак» этой полноты мы называем красотой.
Будучи чувственным началом желания, красота «означивает» полноту, но
никогда не отождествляется с нею. Поскольку она всё к себе зовет (καλουν),
постольку и называется красотою (καλλος). Красота есть зов, призыв к
такому отношению и со-бытию, которое сулит принести нам «избыток»
жизни. Красота зовет к вожделенной причастности жизни, к преодолению
смерти.
Красота любимого, любимая красота, зов жизни. Изначальный призыв. А за
призывом – естество, усмешка смерти. Мы жаждем красоты неутолимой жаждой
естества, инстинкта, вожделения. Природа испытывает потребность
подчинить жизнь целесообразности собственного выживания и увековечения.
Природный «субстрат» и его бытийное осуществление – это наша
индивидуальная онтичность: она эфемерна и несет в себе стремление к
увековечению. Эрос подчиняется этому неудержимому порыву, проникаясь
жаждой фрагментарного, индивидуального наслаждения – психологического
довеска к самодостаточности индивида. Он остается призывом к жизни – но
попадает в ловушку смерти.
Не говоря о прочем, фрейдистский синтез эроса и смерти – отнюдь не
произвольность и не поэтическая метафора. На почве естества смерть
улавливает эрос в свои тенета, хотя он не перестает сражаться со
смертью.
Фрейдистский синтез помогает нам увидеть в эросе, помимо обозначения
наслаждения, призыв к жизни. Первый опыт любви – связь новорожденного с
телом матери. Осязаемая связь с материнским телом – первое для младенца
чувственное восприятие объективной реальности. Связь изначально
жизненная, ибо в ощущении младенца она соединяется с пищей, с
возможностью жизни.
Прилепленность к материнскому телу и его лишенность: диалектика жизни
или утраты, всего или ничего. Получая пищу от тела матери, младенец
имеет всё— имеет непосредственность отношения, которое и есть жизнь.
Напротив, голодный плач – это крик отчаяния существа, чувствующего свою
покинутость. Младенец теряет соприкосновение с жизнью и кричит, ощутив
вкус лишенности отношения, вкус ничто. Связь с матерью эротична, ибо
жизненна. Принятие пищи – возможность жизни, динамичная полнота
отношения. К этой динамике и устремляется в конечном счете всякая
любовь.
Жизненное отношение с пред-метным миром. Прикосновение к телу,
воплощающему жизнь и отрицающему смерть, дарующему всё и
предохраняющему от ничто. Эта динамика жизни не ограничивается одним
только наслаждением пищей: эротический опыт младенца на этом не
кончается. Если бы телесное наслаждение не сопровождалось эротической
полнотой материнского присутствия (словом, лаской, жестом нежности,
проявлением заботы), отношение исчерпывалось бы выживанием, но не
давало бы жизни. Ребенок никогда не вошел бы в мир людей, в мир языка и
символов, субъектного тождества и имен.
Пища есть отправная точка желания, первичный «знак» жажды жизни –
первичный даже по отношению к красоте. То, что мы называем «знаком»,
представляет собой изначальное проявление логоса, зова – призыва –
влечения. Жизненное отношение с пред-метным миром, или вкушение пищи,
есть логосное отношение. Логосное, потому что пища «означает» нечто
выходящее за рамки потребности в еде: она «высказывает» способ
прикосновения, причастности, со-бытия.
«Знак появляется в месте Другого». Отнюдь не потребность в со-мыслии
заставляет знак явить себя. Логос, слово, не есть в первую очередь
средство или орудие утилитарного общения. У животных тоже есть
утилитарное общение, но нет слова. Слово рождается только от присутствия
Другого, которое есть возможность ответить на любовное влечение.
Появление знака артикулирует влечение как притязание. Знак «высказывает»
желание, проясняя возможность ответного желания. Присутствие Другого
означает нечто выходящее за рамки потребности в соитии, за рамки
биологической целесообразности продолжения рода. Знак появляется в месте
Другого, чтобы обозначить исходное для логоса страстное желание жизни –
«жизни бессмертной, жизни нескончаемой; жизни, не знающей нужды в
телесном органе; жизни ясной и нерушимой».
Порыв к жизни получает первый импульс от Другого. Присутствие Другого –
возможность отношения, то есть жизни – есть «место», где появляется
первый знак, слово желания. Слово-логос, конституирующее того, кто
испытывает желание. Появление знака, будучи предпосылкой и началом
отношения, «рождает» субъекта. «Субъект рождается постольку, поскольку в
поле Другого появляется знак», то есть возможность ответного желания.
Событие отношения «рождает» субъекта, придавая конкретность
соотносительному образу его бытия, и способом соотнесенности является
логос.
Вглядимся в зарождение логоса. Оказывается, существует потенциальная
возможность отождествить субъекта с чувственной индивидуальностью,
телесной онтичностью, индивидуальным рассудком, способностью к эмоциям.
Но прежде мысли, прежде суждения, прежде воображения существует
влечение, конституирующее субъекта в качестве логосного существа. То,
что мы называем субъектом, есть эротическое событие; а будучи
эротическим событием, субъект есть также логосное существо. Любовный
порыв к жизни осуществляется в логосе, и это осуществление конституирует
субъекта.
Первый знак в месте Другого – обещание пищи. Вкушение – прикосновение к
материнскому телу, эротическая полнота жизненного присутствия. Но
означающая пища и означаемое присутствие не есть для младенца некая
прочная и постоянная данность. Присутствие изменяется в отсутствие,
приобретение – в утрату. Жажда жизни с первого мгновения артикулируется
в маятниковом движении этой трагической диалектики. Ощутимая
непосредственность отношения и лишенное отношения одиночество; вкус
жизни и вкус смерти.
Жажда жизни и привкус смерти, но и порыв к жизни, сцепленный с
устремленностью к смерти, – в одном и том же изначальном челночном
движении влечения. В младенце живет инстинктивная потребность сделать
присутствие матери постоянным, обездвижить отношение, превратив его в
обладание. Потребность постоянно и неотъемлемо иметь в собственности
источник пищи, возможность жизни. Он хочет владеть матерью, и способ
овладения состоит в том, чтобы поглотить ее в воображении, заменить
риск отношения обеспеченностью обладания, жизненную соотнесенность –
мнимой независимостью. Первые шаги по лезвию биологического
существования, где устремленность к смерти вступает в схватку с порывом
к жизни.
Непротяженность материнского присутствия остается динамичной
порождающей матрицей означивания. Она противостоит смертоносному
окостенению в эгоцентризме, постепенно и незаметно преобразует
притязание во взаимопроникновение. Она претворяет инстинкт в желание,
служащий источником пищи безличный объект – в субъекта жизненной
соотнесенности. Мать не только дает нам субстанцию биологического
существования, но включает нас в жизнь, помещает в самое средоточие
любви. Материнское присутствие вводит природное, инстинктивное
эротическое влечение, стремление к выживанию и увековечению, в
пространство личностного осуществления жизни, потенциальной возможности
жизни как дления.
В дальнейшей жизни каждое любовное приключение будет воспроизводить то
же самое переплетение личного отношения и естественной потребности, ту
же диалектику жизни и смерти. Страстное желание жизни всегда
означивается в месте Другого, на пути прикосновения, причастности,
со-бытия. Этот путь ведет дальше жизненной потребности в пище,
универсализируется в «половом» отношении – в этой всецелой
соотнесенности, всеохватной непосредственной близости, жизнепорождающем
слиянии душ и тел. В этой обоюдоострой общности нужды и отношения,
корысти и самоотдачи.
В каждом любовном призыве воскресает влечение к утоляющему голод
присутствию, влечение к жизни, конституирующее саму нашу субъектность.
Когда мы страстно любим, то похожи на голодных младенцев. Мы вновь
оказываемся в плену челночного движения инстинктивной потребности и
безграничной жажды отношения – прежде любых мыслей, суждений, фантазий,
волений, эмоций. Все эти действия, или функции, задним числом
подстраиваются под «любовную силу» нашего естества – силу жизненную и
жизнепорождающую, конституирующую субъекта и созидающую новое,
субъектное бытие.
(Единая и единственная, любовная сила естества нераздельно и
одновременно есть сила жизненная и жизнепорождающая. Вот почему
гомосексуализм отсечен от любви кесаревым сечением извращенности: он
функционально отлучен от естественной двусторонности жизненного и
жизнепорождающего. Гомосексуализм подделывается под жизненную
соотнесенность любви, употребляя во зло природную жизнепорождающую силу.
Это подобно принятию пищи в отрыве от деятельности – чуда! –
пищеварения. Происходит искажение направленности жизненного порыва,
насилие тщетной и бесплодной иллюзии над естественным и настоящим.
Обоюдоострый способ биологического существования и жизни, увековечения
естества и бессмертия личности извращается в противоестественное и
безжизненное стремление, бьющееся в силках порочных мечтаний.
Разумеется, мы должны испытывать самое искреннее сострадание к столь
трагичной увечности. Но никакая привязанность и терпеливость не должна
помешать нам видеть подмену реальности извращенными фантазиями.)
Любовь управляет жизнью, и потому подвергает ее риску. В каждое
мгновение можно сорваться из отношения в потребление, соскользнуть в
притязание «я» на то, чтобы в воображении «поглотить» Другого. И поэтому
эротическая акробатика жизни, теперь уже перенесенная на почву сознания,
уравновешивает инстинктивное влечение добровольной аскезой. Знак аскезы
прослеживается опять-таки в архетипическом пространстве материнского
присутствия – в том примере отречения от собственного «я», которым
младенец вводится в жизнь, построенную на отношении: в мир символов и
языка, имен и субъектного тождества.
Любовная сила есть способность естества, стремление, порыв, челночное
движение жизни. Но в личностном событии любовной инаковости она
воплощается только тогда, когда является причиной и основанием
освобождения от необходимости: сознательной аскезой любви, отречением от
притязания, достижением свободы от потребности, с ее ограниченностью, во
имя безграничности отношения. Расширением наслаждения за границы
природы – в безграничность личного общения.
В отношение ребенка с матерью, постепенно обнаруживая себя, вклинивается
присутствие отца. Оно имеет решающее значение для формирования
идентичности ребенка, осознания им собственной субъектности, отхода от
фантастической идентификации себя с телом матери – другими словами, для
размыкания и расширения жизненной связи в событие общения. Личности отца
и матери запечатлеваются в детской душе как модели психосоматического
различия, благодаря которому возможно жизненное отношение, усовершение
жизни, ее творческий потенциал. Отец и мать – «архетипы» различия в
жизненном отношении, неизгладимые знаки нашей личностной гармонии в
динамике различия полов.
Эта изначальная гармония – путеводная нить в поисках любви на
протяжении всей жизни человека. Она помогает восстановить тот образ
отношения, который мы в детстве отождествили с обнаружением нашей
субъектной инаковости, с возможностью общения, то есть жизни; с
убереженностью от смерти.
Знаком присутствия служит облик. Облик матери, облик отца –
архетипические образцы красоты, жизненного призыва к полноте отношения,
к полноте любви. Возможно, что субъективное ощущение красоты
устанавливается еще до оформления образа, благодаря чувственному опыту
присутствия отца и матери в жизни ребенка. Поэтому и критерии
чувственной оценки в любви – влечение, вызываемое красотой и побуждающее
стремиться к соединению, – нельзя автономизировать в виде устойчивых
принципов и объективного мерила суждения. Эротическая отзывчивость, или
эротическая оценка красоты, остается переменной величиной, зависимой от
первых знаков Присутствия: именно они конституируют нашу субъектную
инаковость и являют уникальность человека – существа, чью конечную цель
составляет жизнь как дление.
6. Divertimento
Ухватилась за него, и не отпустила его, доколе не привела его в дом
матери моей и во внутренние комнаты родительницы моей.
Если любовь есть модус жизни, то брак есть модус природы. «Природа»
означает закон, необходимость, а модусом закона является правовая норма.
Закон вводит в институциональные рамки естественную потребность,
гарантирует права индивидуального влечения. Из глубин праистории брак
дошел до нас мерной поступью закона, «естественного установления»: как
договор, уравновешивающий права и обязанности. Он служит гарантией и
обеспечением договаривающихся «я», скрупулезной точностью своих пунктов
создавая ощущение крыши над головой, гарантируя товарищеские отношения,
общность бюджета, обоюдность наслаждения, телесное увековечение каждого
«я» в детях.
Предопределенная институция и динамичная неопределенность жизни, брак и
любовь суть две противоборствующие данности. Институция не способна
предугадать инаковость, неожиданный поворот; не способна прочувствовать
качественную сторону дела. Она определяет и фиксирует общеродовое,
безличное, объективное; она обездвиживает жизнь в статичных
предустановлениях, полагает ей границы в удобных контролируемых схемах.
Любовь – неожиданный дар жизни, брак – узаконивание потребности.
Потребность есть модус естества, четко определенный с недвусмысленной
ясностью закона, без всяких скидок на неведение или ошибку. И потому в
браке неожиданностям нет оправдания. Если мы ожидаем от брака чего-либо
иного, нежели то, что он обещал изначально, то виноваты в этом мы сами,
наше легкомыслие или близорукость.
Закон есть модус естества, институция есть модус закона. В браке
институируется природное стремление – овладеть Другим, присвоить его,
иметь в своей собственности. Договор обусловливает равное взаимное
владение, взаимное присвоение друг друга. Ты даёшь, чтобы взять;
предлагаешь, чтобы получить взамен. То, что изначально обещает брак, не
предполагает любви, если не прямо исключает ее. Риск отношения, не
определяемого заранее, динамика неожиданных даров несовместимы с
логикой институций.
Отнюдь не случайно мы, люди, кодифицируем брачные отношения в нормах
права – обычного и государственного. Если притязания и обязанности не
уравновешивают друг друга, мы обращаемся к судье, отстаивая свои права
с помощью государства. По решению суда можно потребовать от партнера
даже плотской связи: это его «супружеский долг». Закон дает гарантии
природному влечению, претендуя на возможность манипулировать желанием.
Любовь нельзя гарантировать заключением брака; институция не затрагивает
глубинных основ жизни. Мы знаем, что на практике неисчислимое множество
браков заключается без любви, и люди всегда смотрели и смотрят на это
как на нечто само собой разумеющееся. Те же, кто вступает в брак по
любви, строят воздушные замки, если считают, будто официальная
регистрация брака гарантирует любви пожизненное постоянство. Модус
жизни исключает возможность гарантировать его посредством модуса
природы.
Отличие способа жизни от способа природы высветилось в слове
христианского опыта. Поэтому и разница между любовью и браком получает в
христианском Предании, пожалуй, наиболее отчетливое разъяснение. «Кенозис»,
самоотдача в любви есть пример способа жизни – пример, воплощенный в
личности Христа. Чтобы последовать ему, человек должен разбить оковы
зависимости от способа естества: оковы родства, оковы гарантированное,
доставляемой юридическим оформлением брака.
Если кто приходит ко Мне, и не возненавидит отца своего и матери, и жены
и детей, и братьев и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может
быть Моим учеником (Лк 14:26). Не существует такой области, где возможен
компромисс с броней естества, с психологическим уловлением индивида в
юридические хитросплетения брачных уз. Быть может, это самые жестокие
слова, когда-либо сказанные о браке.
В посланиях Павла проясняется цель такой «ненависти», такого
бескомпромиссного разрыва с узами родства. Эта цель – свобода: свобода
от естества ради отношения, свобода от необходимости ради любви. Ради
изначальной любви, соотносимой с Личностью Бога. Однако свобода от уз и
законов естества не означает его отрицания или отвержения, но лишь отказ
от способа естества, от способа присвоения и обладания, так что имеющие
жен должны быть, как не имеющие; и плачущие, как не плачущие; и
радующиеся, как не радующиеся; и покупающие, как не приобретающие; и
пользующиеся миром сим, как не пользующиеся (1 Кор 7:29-31).
В том же тексте Павел устанавливает брак только как позволение, а не
как повеление (1Кор 7:6). «Позволение» означает уступку способу
естества, способу смерти в целях воспитания человека. Какой смысл может
иметь педагогика, мирящаяся со смертью? Павел знает, что отношения в
браке неизбежно принимают властный характер: это отношения
сбалансированного обладания, взаимного присвоения: Жена не властна над
своим телом, но муж; равно и муж не властен над своим телом, но жена
(1Кор 7:4). Все-таки в воспитательном отношении предпочтительнее
(плодотворнее в смысле возможностей освободиться от способа естества),
чтобы человек связывал себя узами законного брака, с его равновесием
взаимовластия, чем властвовал бы, не испытывая власти над собой, как это
бывает в блуде. Во избежание блуда, каждый имей свою жену, и каждая имей
своего мужа (1Кор 7:2). Естественно-правовой институт брака
оправдывается в сравнении с естественным беззаконием блуда.
В противоположность христианству, родоплеменные религиозные традиции не
ведают отождествления способа жизни с эротическим самопревосхождением.
Они отождествляют способ жизни с естественной сексуальной деятельностью.
Единственный способ сотворения жизни, известный человеку, – это половое
отношение. Оттого и само сотворение, или оформление, сущего (космогония)
предстает в виде сексуальных отношений богов. Так половой инстинкт
возводится в ранг священного. Проституция становится священнодействием;
священные блудницы руководят обрядами, подражающими архетипическому
совокуплению. Но сакрализация сексуальных отношений сопровождается
одновременно страхом перед узурпацией рождающей способности богов.
Половая способность человека есть «гордыня» противостояния божеству. В
итоге цикл половой деятельности, принимая священный характер, в то же
время презирается как нечто «скверное». Вокруг него создается атмосфера
подозрительности, недоверия или страха перед чем-то «демоническим»,
«нечистым».
Элементы такого брезгливого отношения к сексуальному циклу еще и сегодня
сохраняются в общественном сознании. В основном это связано с остаточным
еврейским влиянием на христианские обычаи. Еврейский народ унаследовал
от доисторических религий соседних народов предубеждение против
«нечистоты» сексуальной деятельности и представление о необходимости
очищения. В течение сорока дней после рождения ребенка мать считается
нечистой, и ей воспрещается входить в святилище (Лев 12:1-8). То же
самое имеет силу в отношении всякой женщины в период месячных (Лев
15:19-30) и в отношении всякого мужчины после непроизвольного ночного
семяизвержения (Лев 15:1-17). Половое сношение делает человека нечистым
(Лев 15:18; Исх 19:15; Цар 21,5; 2Цар 11:11): например, священник в
подобном случае отстраняется от богослужения.
Такого рода представления не случайно уцелели в христианской традиции.
Конечно, Церковь совершенно по-другому смотрит на половое влечение и
объясняет его: для нее это «любовная сила», укорененная не только в
воле, но во всей природе человека ̶ в его теле и душе. Но в то же время
эта сила в первую очередь выражает стремление к бытийной автономии
природы, к ее самоувековечению. Вот почему практическое христианство
выражает в традиционной символике «чистого» и «нечистого» собственные
недоверие и сдержанность в отношении сексуальной деятельности. Нечиста
не природа, а проделываемый ею трюк: она играет со способом жизни в игру
смерти.
Символика «чистого» и «нечистого» есть архетипическая семантика
обособленности свободы от необходимости – свободы личности от природной
закономерности, природной необходимости смерти индивида. Только эрос
возвещает благую весть о личном бессмертии: весть об исхождении из
бытийных потенций естества, об исчерпании бытия в любовном общении.
7. Promenade parmi les tons voisins
Есть шестьдесят цариц и восемьдесят наложниц и девиц без числа;
но единственная – она, голубица моя, чистая моя.
Способ жизни и способ естества, любовь и смерть. Различие между ними не
уловить одним лишь изощренным умом. Не помогут здесь и религиозные
проповеди, выискивающие изъяны у авторитетов. Истоком и средством
различения может быть только опыт.
Изначальная брезгливость к сексуальности – не является ли она
неосознанным отображением страха смерти? Обвинение биологической функции
в «скверне» и «нечистоте» ни в коем случае не позволяет провести и
осмыслить различие между духовным и плотским, логикой и инстинктом,
законным супружеством и беззаконным наслаждением.
По крайней мере, в еврейской традиции ничто не препятствует мужчине
иметь двух и более жен (Втор 21:15; Цар 1:2), а также брать наложниц и
рабынь (Быт 16:2; Исх 21:7; Суд 19:1; Втор 21:10). За исключением
случаев храмовой проституции (которая является отклонением от правильной
религиозности), проституция, как правило, не осуждается (Быт 38:15-23;
Суд 16:1). Лишь позднейшие тексты «речений мудрости» предостерегают
против опасностей, проистекающих из связей с блудницами (Притч 23:27;
Сир 9:3; 19:2). Что запрещается безоговорочно, так это прелюбодеяние.
Как сама прелюбодейка, так и соучастник прелюбодеяния караются смертью
(Втор 22:22; Лев 20:10). Но цель этого запрета состоит в защите прав
супруга, в то время как мужчине ничто не препятствует вступать в связь с
незамужними женщинами или блудницами.
Природная необходимость и личная свобода, рабствование смерти и динамика
бессмертия – дилеммы, которые не ставились в еврейской традиции.
Различие между эросом и смертью, способом жизни и способом естества,
быть может, и приоткрывается, но остается неосознанным. Еврейский Закон
определял условия принадлежности к «народу Божьему», познания Бога,
исходя из исторического отношения, и параллельно обуздывал
«жестокосердие» этого норовистого народа (Мф 19:8; Мк 10:5). Но Закон не
ставил целью бытийное преображение человека, приобщение к подлинной
жизни.
Чтобы существование перешагнуло порог смерти и вступило в область жизни,
по ту сторону обветшалого бытия, возможностей нашей природы
недостаточно. Сколько бы мораль ни упражняла волю, сколько бы искушений
ни преодолевали наши добродетели, естеству не дано переступить границы
смертности. Чем выше мы поднимаемся по лестнице морали, тем больше
укрепляемся в иллюзии преодоления природы; но как бы высоко мы ни
поднялись, внизу зияет ненасытная пропасть смерти.
Да, любовь претворяет существование в отношение, дает другое ощущение
жизни. Уже в преддверии любви – в искусстве – возникают первые проблески
некоей изначальной достоверности. От поэтов, музыкантов, художников,
умерших годы и столетия назад, давно остались только иссохшие голые
кости; но слово их всё длится – длится в непосредственной близости
личного отношения. В той мере, в какой ты вверяешься отношению, в тебе
вспыхивает свет их логоса, их «души». Чем щедрее отдаешь себя в любви,
тем ярче горит в тебе надежда на бессмертие и твоей собственной «души».
Христианская «вера» озаряет эту ностальгическую надежду на ступенях
любовного чаяния. Да, эрос претворяет существование в бесконечную жизнь,
потому что Бог существует как полнота троичного эротического со-бытия.
Бог «есть любовь». Приняв смертное индивидуальное бытие, Иисус Христос
претворил смерть в послушание Отцу, в событие приобщения к бессмертной
жизни. Смертность осталась немощью естества; бессмертие сделалось
возможностью, даруемой в отношении. Наше сокровенное «я», наша «душа»—
наша подлинная личность – оказывается избавленной от смерти, когда в
Другом мы узнаём обращенный к нам личный призыв, конституирующий нас в
нашей субъектности: узнаём Лик любящего Отца.
Слово «Бог» определяет не пред-метное понятие, а личное отношение – как
имя любимого в каждой любви. В нем нет значения дистанции, отстояния.
Когда слышишь любимое имя, непосредственно ощущаешь непротяженную
близость присутствия: в нем – твоя жизнь, целиком претворенная в
отношение. Мы познаём Бога, выстраивая отношение, а не осмысляя
понятие.
Отношение образует саму субъектность нашего существа. Мы участвуем в
бытии как существа, наделенные разумом и мышлением, субъективным
самосознанием и самотождественностью; потому и любовное влечение нашей
природы преображается в личное отношение, когда Другой впервые
пробуждает в нас признаки желания. Таким событием становится
присутствие матери. Субъект рождается в первом трепете любви.
Должно вам родиться свыше (Ин 3:7). Это может означать, что субъект
рождается в подлинную жизнь, когда любовный порыв преодолевает
индивидуальную самодостаточность с ее конечностью. Когда в «месте»
желания властвует Имя причины и начала личного отношения: Имя
Единородного Слова.
В христианской традиции слово откровение означает явление Имени, а не
добавление очередных «истин» к интеллектуальным восхождениям. Любящий
имеет имя и лицо: Иисус Христос, Жених нашего сокровенного «я», или
нашей «души». Его любовный призыв, которым наша личность рождается
«свыше», имеет историческую плоть чувственно воспринимаемого события:
Он первым возлюбил нас, когда мы были Ему врагами и противниками. И не
только возлюбил, но и принял за нас бесчестье, и поругание, и был
распят, и сопричислился к мертвым. И через всё это явил свою любовь к
нам.
Способ жизни и способ естества – любовь и смерть. Которому из них
быть – это решается в «месте» желания. Именно там рождается субъект,
бессмертный или смертный: в удивительной динамике «хлебного зернышка»,
которое должно умереть, чтобы стяжать бессмертие. Зернышко человеческой
индивидуальности должно «истощиться» от всяких притязаний на
самодостаточность, чтобы черпать бытие и жизнь не из стремления к
независимости, а из эротической самоотдачи. Чтобы человек стал «кенотически»
любящим существом, как Бог есть кенотическое «взаимопроникновение»
Троицы Лиц.
Способ жизни – это способ того, что обозначено в «месте» желания Бога,
способ кенотической любви.
8. Scherzo
Я буду в глазах его, как достигшая полноты.
Земля людей открывается взгляду любви, словно живописное полотно.
Заснеженный пейзаж; поезд, скользящий в ночной долине, нарушая тишину.
Мимолетные картины: разбросанные селения, огоньки освещенных окон.
Каждый такой огонек – чей-то кров, призрак счастья: горячий суп, нежное
объятие перед сном, друзья-соседи и верный пес, не смыкающий глаз у
порога. Земля людей – незнакомка для взгляда любви. Но вот за этим
освещенным окном – крушение. Боль – немая или открытая, словно
незаживающая рана. Горячий суп – да, обычная рутина и тяжкая повинность.
Каждый день растут горы посуды, которую нужно мыть – мучительное бремя.
Собаку забыли покормить – «всего не успеешь». Невыносимая усталость – и
ни доброго слова, ни ласки, ни теплого взгляда за целый день. Так что и
в постели нежность кажется неразделенной, почти нелепой. Ее нужно
выпрашивать, и это унижает. Те, кто роднее родного, снисходительно
уступают друг другу любовь: один миг телесного наслаждения, и больше
ничего. Заканчивают, поворачиваются друг к другу спиной и засыпают.
Конченая жизнь, в которой каждый день – будто хождение вслепую по
кругу, с ярмом на шее.
Земля людей, недоступная лиризму путешественника. Здесь живут страстями
и молча терпят адскую муку: идти по жизни вдвоем, но каждому в
одиночку – мука двойного одиночества. Несовпадающие движения души,
разноречивые желания, несовместимые вкусы. Они таятся под иллюзорным
покровом героического терпения, добродетельной стойкости, смиренного
ожидания или обнажаются во вспышке гнева. Кто поймет, что за этими
освещенными окнами: искры счастья или сполохи ненависти? Ненависть
возрастает в часы бессонницы. Она не считается ни с разбитым усталостью
телом, ни с глубокой ночью: разбередить душу, чтобы она истекла кровью!
Твое право и мое право не совпадают; болезненное самолюбие превращается
в настоящую паранойю. Наши речи не могут стать диалогом, потому что у
каждой из них – своя логика: логика детских обид, отроческих
предательств, несложившихся отношений с матерью или отцом. Кто знает, с
кем мы сражаемся в лице другого – но только не с ним самим. Просто
кто-то внешний должен воплотить в себе нашу обездоленность,
ответственность за наши несчастья и несбывшиеся желания. Слияние в
единую плоть означает, что другой становится нашей плотью, не переставая
быть другим. Плотью наших отвергнутых нужд, нашей жажды признания,
независимости, безопасности. И поэтому мы с маниакальной жестокостью
терзаем эту нашу собственную «вторую» плоть.
Земля людей, вся эта земля – могила: могила мечтаний, ожиданий, надежд.
Матушка-земля, мать-природа, озверевшая в паническом усилии выжить,
противостать физическому уничтожению. В своих мечтах она лелеет косное
«я», бьющееся в напрасной попытке избежать смерти. Наружным сторонам
своего существования она придает благопристойный вид, чтобы снискать
признание, обрести подпорки на пути выживания. Но в святилище
совместной жизни завесы срываются, и болезненное самолюбие обнажается в
своей откровенной параноидальности.
Земля людей – зрелище сплошного страдания. Мимолетные картины,
схваченные на ходу. Поезд скользит мимо почерневших балконов, мимо
грязных задворок многоэтажек на нищих окраинах блестящих мегаполисов.
Убогое белье, развешанное после стирки, как последний вызов чистоты. Из
форточек несет прогорклым жиром. За дешевыми занавесками силуэты усталых
женщин: отвислые расплывшиеся формы, плохо прокрашенные волосы, в
натруженной руке – половник или тряпка. Радио надрывается в популярной
песенке про знойную страсть. Женщины ждут вечера. Целый день, каждый
день – ждут вечера. Когда мужья вернутся с работы или после игры в
карты, когда можно будет накрыть на стол и разогнать дневную тоску в
дешевой перебранке. У телевизора ссора незаметно угаснет. Потом улягутся
вместе в постель; минутное наслаждение увядших тел – всего лишь приправа
к еде и питью. Всё вместе: и страдание, и наслаждение, в одной и той же
горечи безнадежного прозябания.
Земля людей – многоликая драма. Богатство и нищета – два берега одного и
того же потока смерти. На другой стороне видны фешенебельные кварталы,
роскошные дома, блестящие виллы. Вот вырисовывается силуэт утонченной
пары, сидящей за накрытым к ужину столом. Хрусталь, фарфор, серебро
отражают вежливые улыбки; отборное вино из богатых погребов гармонирует
с изысканностью речей. Оба – «высококультурны», ежедневно они
обмениваются богатыми впечатлениями. Но взгляд уводит в пустоту.
Холодный блеск искусственности. У каждого это второй или третий брак, и
закончится он приличным разводом, все имущественные вопросы будут без
конфликтов улажены. Благопристойный фасад скрывает тайну запертых на
ключ чувств и намерений. Тень недоверия в отношениях совершенно
естественна – это жизненно важное и необходимое условие равновесия. Оба
балансируют на канате притворства, и отсутствие страховки глубоко
разъедает души. Маски на каждый случай: для выхода в свет, для постели,
для дружеских встреч. Когти, спрятанные под перчатками; острые зубы за
растянутыми в улыбку губами.
Мудрый и блаженный Будда, мистическая полнота «всеобщей гармонии», Дао и
Дзэн, логическая взаимодополнительность противоположностей, Кришна и
Упанишады: чудные противоядия от агонии смерти, благодаря которым смерть
становится лишь ожиданием. В ежедневной смертельной муке, которой
оказывается для нас Другой, в пытке одиночеством на совместном пути
всевозможные мистические учения приносят облегчение, позволяя укрыться
за спасительной личиной. Но за каждой такой личиной ухмыляется
бессмысленная пустота – победительница-смерть.
Распятое на кресте, мертвое Слово жизни взывает к откровению. Жизнь,
склонившаяся в добровольном приятии смерти. И вся откровенность
откровения кроется в этой «добровольности». Крестом и смертью становится
любое сосуществование, само сродство личности и естества, свободы и
необходимости. Единственная трещина в ледяной стене данности – любовное
доверие к Отцу. Если настаиваешь на том, чтобы смотреть на вещи, исходя
из этого доверия, – то тебе, в твоей стойкости, забрезжит откровение:
Крест есть брак Христа с нашим естеством, приведенным из свободы эроса
в брачный покой последнего самоотречения. И тогда смерть становится
объятием Единственного Желанного.
9. Stretto
Весь он – желание. Вот кто возлюбленный мой.
Желание есть наше всецелое существо в напряжении его жизненной
устремленности. Подобно натянутой струне, желание тоже порождает звуки
разной высоты: от рыка слепой потребности до высокого тона безоглядной
самоотверженности.
Мы не укоряем голодного за его потребность в пище; но все-таки зверский
голод алчущего не имеет ничего общего с райским благословением вкушения
плодов. Маниакальная эротическая жажда тела вызывает в нас, напротив,
страх и отвращение. Где та граница или мера, которая превращает желание
в угрозу и оскорбление?
Мы отличаем любовь от телесной жажды. Эротическое изумление – это
всегда душевный трепет, и опьянение взаимностью несет с собой нежданное
очищение от любых телесных вожделений. Неотвязное животное сластолюбие
внезапно исчезает при первом признаке любви. И тем не менее любовное
отношение вызревает только по мере того, как желание приобретает все
более универсальный характер. Каждая любовь стремится ко всецелому
участию души и тела в непосредственном отношении, к единению двоих в
одну плоть.
Первое волнение при нечаянной встрече взглядов, опьянение от первого
соприкосновения рук, переполняющая душу радость от одного вида Другого –
всё это постепенно и незаметно подводит к необходимости высшего
наслаждения. Между этой полнотой завершения и началом любви, возникающей
при виде красоты – бесконечное множество ступеней желания. Невозможно
провести черту между душевной энергией и телесной функцией, духовным
событием и плотским влечением, экзистенциальной потребностью и
биологической необходимостью.
Изощренное взаимопроникновение душевного и телесного на пути по ступеням
желания. Оно заставляет людей думать, будто душевный трепет в любви –
это всего лишь ухищрения телесной потребности. Что главная побудительная
причина каждой любви заключается в инстинктивном стремлении к
наслаждению, в биологической потребности в соитии – почти с первого
мгновения, как только душа пробудится к благодатной взаимности. Даже
любовь к искусству, науке или Богу есть лишь неосознанная идеализация
биологического влечения.
С другой стороны, общий опыт ставит под сомнение достоверность такого
однобокого истолкования. Приоритет телесной потребности в любви отнюдь
не самоочевиден. Скорее наоборот: множество эротических неудач, случаев
фригидности или импотенции объясняется исключительно сопротивлением
сознания, психологическими комплексами, душевным смятением. Часто
биологическая потребность обнаруживает свою зависимость от психической
деятельности, по-разному трансформируясь под влиянием психических
механизмов отказа, идеализации, эгоцентрической самозащиты. Кажется
почти невозможным установить конкретные границы эротического события,
сказать: до сих пор – психическая деятельность, а отсюда и дальше –
биологическая потребность и инстинктивное влечение.
Если реальное противостоит дефинициям, то воображаемое действует, только
будучи оформленным. Особенно в любви воображаемые суррогаты реальности
придают форму некоему бессознательному и темному пространству вины,
нарциссической самозащиты, страха перед взрослостью, инфантильного
неприятия риска. И границы такого оформления всегда определяются
законом.
Закон объективирует форму, делает ее предметом, доступным присвоению и
обладанию. Установленные законом воображаемые суррогаты жизни порождают
иллюзию, будто мы владеем самой жизнью, подчиняем и контролируем ее
динамичную неопределенность. Когда мы повинуемся закону, жизнь обретает
конкретные мерки и рамки. Они гарантируют нам «правильность» жизни,
оформление ее «подлинности». Каждое преступление закона служит мерой
отклонения от этих гарантий, подрывает безопасность нашего «я».
Целые столетия так называемое христианское человечество жило и живет в
соответствии с такими юридическими определениями границ желания. Была
разработана сложная правовая система идеализированного и казуистического
толка. Ее бесконечные вариации – в праве римской церкви, этике
кальвинистов, пиетизме лютеран, пуританстве методистов, баптистов и
квакеров; в превращенном в идола морализаторстве анабаптистов, Армии
спасения, цвинглиан, конгрегационалистов.
Каждое из этих имен обозначает тип кодификации правовых ограничений,
налагаемых на желание. Эти имена представляют целые поколения. Тысячи и
миллионы людей прожили свою единственную земную жизнь в аду отвергнутых
желаний и неумолимой несвободы, мнимой виновности и нарциссической
нищеты. Целые поколения, не по своей воле прожившие увечную жизнь без
любви. Они отождествляли эрос с ужасом греха, добродетель – с
отвращением к собственному телу, телесное проявление нежности – с
мерзостью и унизительностью уступки скотству.
Правовые ограничения желания артикулируются вокруг одной неподвижной
оси: что есть в любви телесное, а что – душевное? Что, следовательно,
является виной, а что – невинностью? Ибо телесное всегда виновно, а
душевное – невинно.
Но и опыт телесности тоже выстраивается в виде идеализированной
казуистики нравственных градаций. Кошмарное воодушевление, с каким
отмеривается вина. Точнейшее определение границ дозволенного
наслаждения: до каких пор может дойти телесная нежность, а где ей
остановиться. Натуралистические подробности рассудочных классификаций
вводят чувство вины в самые спонтанные проявления отношений между
людьми.
Конечно, в любви существуют границы. Но они не отделяют душевное от
телесного, юридическую вину от юридической невиновности. Существуют
реальные, хотя и трудноразличимые границы между наличием отношения и его
отсутствием. Границы между самоотдачей и эгоцентрическим притязанием,
между настоящей любовью и подделкой настоящей любви.
Если эрос есть жажда жизни – «жизни бесконечной, жизни вечной, жизни
беспредельной, не испытывающей нужды в средстве или орудии для
самовыражения», – тогда первохристианское Предание предлагает нам более
чем достаточное истолкование эроса: эрос есть способ подлинной жизни,
запечатленный в человеческом существе; отблеск сотворенности человека
«по образу Божьему». Укорененная в естестве человека, в его душе и теле
«любовная сила» определяет способ бытия естества. Она есть природное
стремление, которое приоткрывает недостижимую «сердцевину» человеческой
субстанции – ее личностную инаковость.
В перспективе такого истолкования эрос не сводится к естественной
функции, к способности продолжения рода, но принадлежит к личностному
способу бытия природы. И поэтому он осуществляется универсальным
образом, в каждом телесном и душевном действии естества, не отделяя
душевное от телесного и не полагая им границ.
Христианское Предание называет «грехопадением» человека извращение его
стремления к жизни в стремление к смерти. Природа из-вращается,
сворачивает на путь «из» жизни, из способа «подлинного существования».
Бытийная энергия и деятельность природы обосабливается от самой
личностной сердцевины ее жизненной субстанции. Она функционирует и
действует не как любовное отношение и эротическая самоотдача, но как
автономное движение и стремление к самоутверждению, самоудовлетворению,
самоприсвоению безличной индивидуальности.
Приобщение к пище – бытийное отношение с пред-метным миром – извращается
в безудержное индивидуальное стремление к насыщению и вкусовому
наслаждению – гурманству; производительный труд ради добывания пищи – в
самоцель; социальное общежитие – в антагонизм амбициозных индивидов; а
отношение любви – в ласкающее индивида удовлетворение, в
эгоцентрическое наслаждение. Предельным выражением извращения эроса,
изначальным и общечеловеческим, является проституция: платишь деньги и
покупаешь удовольствие. Покупаешь партнера для любви, словно обычный
предмет потребления.
Там, куда закон не протягивает свои смертоносные щупальца, сдерживание
безличного влечения во имя личностной любви не означает пренебрежения
природой, презрения к телу. Это сдерживание переживается не
природоцентрично – не как индивидуальный подвиг естественной воли, не
связанный с личностным способом бытия. Целомудрие и воздержание в пище –
всегда вместе – означают аскетическую готовность к полноте отношения,
чтобы одолеть сопротивление естества с его самовластием, исключающим или
отчуждающим личное отношение. Чтобы уклонение в смерть обратилось в
способ жизни.
Там, куда закон не протягивает свои смертоносные щупальца, целомудрие
есть эротический факт: преодоление частичного эроса ради эроса
всецелого. Отказ от гедонистических фантазий ради универсального
отношения любви, обнимающего каждое мгновение жизни, каждого человека и
каждую тварь и устремленного к конечной цели – истоку и полноте любви: к
Лику Бога.
10. Exposition au relatif
Подумал я: влез бы я на пальму,
Ухватился бы за ветви ее.
Как ухватиться за ветви глиняными пальцами? Восхождение в любви подобно
сизифову труду. Но мы существуем, только поднимаясь к парению
неощутимого, только испытывая желание, которое конституирует нас в
качестве личностного существа.
Размышления и суждения, воления и ощущения, память и воображение –
элементы чувственного опыта, которым суждено рассыпаться во прах.
Угаснуть вместе с биением сердца и дыханием; с последними ощущениями
вкуса и запаха; вместе со всеми вариациями узнаваний, разыгранными на
клавишах мозга. Телесные и душевные энергии, или функции, бесповоротно
осуждены угаснуть. И благодаря желанию они действуют, или функционируют,
только в виде отношения, соотнесенности. Там, в отношении, возникает
уникальность способа бытия, единственное и неповторимое как
соотнесенности. Там отражается инаковость сокровенной глубины нашего
существа, наша личностная сущность. Свобода от естества – то, что дано
нам всем.
Там, где природа незримо преображается в отношение, живет наша надежда
на бессмертие. Там, в любви.
Отличие природы от личности есть не рассудочная дефиниция, а опыт любви:
откровение единственности возлюбленного, не вмещаемое в дефиницию.
Дефиниции – только природа, только признаки общего понятия: они
определяют предметное, общеданное.
Откровение любви неопределимо; оно высвечивает инаковость личности, ее
свободу. Неопределимо – и потому неощутимо.
Пре-вращение природы в отношение, поворот способа бытия от необходимости
к свободе. Мы покидаем необходимость и обживаемся в свободе. Сколько
смерти вмещает в себя такое превращение? Смерти ограниченного,
объективного, смерти самой смертности, очерчиваемой и конечной.
Оставление индивидуальности, «опустошение» («кенозис») от притязаний
естества, ничтожение эгоцентрического противостояния. И воскресение
личности в ее эротической инаковости. Жизнь в иной форме.
Суетность дефиниций, косноязычие и убогость немощных значений. Любовь не
вмещается в слова языка. Потому воскресение и ищет нас, прячущихся в
растерянности от невыразимого и недоказуемого. Язык несет с собой страх;
точнее, облекает в страх грядущую безъязыкость смерти, абсолютное
одиночество неотношения и безвыходности. Воскресение всегда неизреченно
и неощутимо, в то время как смерть нема и осязаема, предметна. Камень,
лежащий напротив: у врат желания.
Кто нам отодвинет камень пред-лежащей смерти? Кто нам укажет на нашу
собственную смерть и научит превращать природу в отношение? Похоже, одна
только любовь способна доверять недоказуемому. Поэтому мы и цепляемся за
семантику желания: вдруг она да поставит запруду перед общезначимыми
понятиями? Там, в желании, в первозданной целостности восстает от смерти
инаковость. Мы – дети этого недоказуемого воскресения, разбуженные в
«месте» Другого, в желании материнского присутствия. Камень отодвинут не
нашим физическим рождением, а первым явлением знака, вхождением в первое
любовное отношение. Именно Слово Отца обособляет желание от тождества с
материнским телом, отрывает нас от природы, чтобы конституировать в
качестве личностей.
Вожделением мы боремся со страхом. Страх и вожделение пожизненно
сопровождают нашу эротическую жажду, из беспредельности неосязаемого
созидая надежду. Для того чтобы природа претворилась в отношение, должна
явиться благодать, должен быть дарован знак Присутствия. Из безоласности
тождества он ввергнет нас в риск отношения, чтобы осталась пустой
гробница материнской утробы. Дабы отношение не ограничивалось
естеством, нужно вмешательство Благодати, по природе освобождающее
любовь от тленности. Только вечно живой Любящий может сказать: Лазарь!
Иди вон.
Мы, христиане, говорим о «теле» Церкви, в котором даруется воскресение,
то есть совершается приобщение к жизни. Тело – утроба, пустая гробница;
Любящий – перворожденный из мертвых, называющий несуществующее, как
существующее. Торжество недоказуемого, вечное празднество неосязаемого.
Может быть, иллюзия, мираж жизни; а может быть – неизреченная
достоверность непосредственного опыта. Во всяком случае, непрестанное
вхождение в риск отношения, продвижение по лезвию бритвы.
Жизнь, освобожденная от смерти: что в действительности означает эта
фраза? Она кажется понятийным облачением, прикрывающим наготу нашего
незнания. И тем не менее за доли мгновения любви незнание раскрывается
как то, что превыше всякого знания. Тогда мы вкушаем ответный дар
бессмертия – воздаяние за дар нашей души, в котором мы раздали себя,
поправ свое поверженное «я».
Раздать душу в дар: вот к чему отсылает в действительности слово
fieravoia(1), покаяние – понятийное производное от любви. Перемена ума,
или любовь к недоказуемому. Сбрасываешь с себя любые понятийные
облачения, служащие средствами самозащиты; сдаешь оборонительные рубежи
своего плотского «я». Покаяние совершается не в нарциссической печали
из-за правовых прегрешений; оно есть исступленный «кенозис» любви.
Перемена способа и мышления, и бытия.
Наша природа есть, существует, мысля самое себя в своей биологической
самоцельности. Она самопроизвольно поступает так, как всего приятнее,
упиваясь мнимой сладостью жизни как собственной цели. Поэтому покаяние и
есть исступление: оно выносит логику желания за рамки такой самоцельной
жизни, ограниченной смертью. За пределы физического существования – в
благодатную жизнь: в Благодать любви.
Толчок к покаянию дает осознание греха: слово из того же взрывного
словаря, силу детонации которого нейтрализует его неверное «религиозное»
употребление. Грех – не преступление закона, а неудача, промах, провал,
отпадение от беспредельной жизни как цели. По-настоящему признать
греховность своего природного существования человеку нелегко: он не
может ограничиться лишь частичным и рассудочным признанием. Покаяние
есть «перемена ума», всецелое изменение образа мыслей, того способа,
каким человек мыслит и распоряжается своей жизнью. Покаяние – это
расширение свободы за пределы биологического, в недоказуемость Благодати
любви.
Перемена, происходящая в покаянии, настолько реальна, что в жизни
истинно влюбленного изменяет всё. Даже потребность в пище и воде, в
славе и силе. Влюбленный жаждет только взаимности. И чем щедрее она
даруется, тем больше ширится любовь, словно круги на воде от пущенного
камешка.
Мы любим не только лицо Другого, но каждую его черточку, всё, что так
или иначе причастно к нему. Любим всё, чем он занимается и чего
касается; музыку, которая ему нравится; дороги, по которым он ходит;
места, которые мы видели вместе. Если тебе случится – пусть на долю
секунды – полюбить Бога личной любовью, трепет желания подстерегает тебя
повсюду: в каплях весенней росы; в снеге, осыпающем серые кружева
рябиновых ветвей; в лазури неба и моря в летний полдень; в осеннем
благоухании первого дождя. Каждое проявление красоты, каждое
исполненное мудрости творение – плод любовного порыва, дарованный именно
тебе.
Мы называем святым того, кто безумно влюблен во всякое творение Бога.
Влюблен даже в то, что нам, остальным, кажется ошибкой природы: в
пресмыкающихся, хищников, явных злодеев. И от воспоминания о них и от
созерцания их глаза его источали слезы… И он не в силах был перенести
или услышать про какое-либо малейшее зло или огорчение, причиненное
твари… И через это во всякий час приносил слезную молитву и о
бессловесных… и о птицах, и о зверях, и о бесах… и о естестве гадов… и о
всякой твари.
Влюбленные в Бога: собрание святых, церковь исступленных. Отрешенных от
биологии религии, от интеллектуальных достоверностей; снявших броню
добродетелей. Святых. А вокруг них – множество нас, ветхих,
соединившихся в усилии, которое стремится стать личным во взаимности.
11. Comma
Сыновья матери моей разгневались на меня.
У любви нет логики. По какой логике святой молится о гадах и бесах?
Логика есть у религии, закованной в доспехи закона. Логика и закон –
защитная броня религии, панцирь нашего «я».
Религия: индивидуальные метафизические убеждения. Индивидуальная этика.
Индивидуальная попытка умиротворить божество. Логически правильные
аргументы, призванные доставить уверенность. Нравственное поведение
подкреплено законом, дабы гарантировать уважение и авторитет. Культ
эмоционален и служит средством достижения психологического комфорта.
Любовь начинается там, где кончается такая оборона собственного «я».
Когда Другой нам важнее нашей собственной жизни; важнее всякого
оправдания, всех преходящих или вечных гарантий. Готовность принять даже
вечное осуждение ради возлюбленного или возлюбленных – вот знак, по
которому узнается любовь, узнается Церковь: Я желал бы сам быть
отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти, то есть
Израильтян (Рим 9:3-4).
В благовестии Церкви любящий человек воплощает образ жизни, а человек
религиозный – образ смерти. Различие между ними открывается в
противопоставлении блудницы, омывшей миром ноги Христа, и религиозного
окружения, протестующего против растраты мира (Мф 26:6-13; Мк 14:3-9; Лк
7:36-50): любовь и смерть в их парадигматическом сопоставлении.
Покаяние блудницы – действие откровенно эротическое. Она покупает
драгоценное миро, не скупясь и не считая денег; щедро льет его, мешая со
слезами, чтобы омыть ноги Христа, и распускает волосы, чтобы отереть их.
Неистовый порыв откровенной любви! Но окружающие, люди религиозные,
остаются слепыми и сторонними. Они измеряют поступок блудницы мерой
моральной эффективности: К чему сия трата мира? Ибо можно было бы
продать его более, нежели за триста динариев, и раздать нищим. Блудница
любит щедро и безрассудно, без правил и логики; религиозное окружение
рассчитывает логическую целесообразность действий и степень их
моральной полезности.
Людей из религиозного окружения, законников, не интересуют бедные. Для
них важно действие подаяния, так как оно считается индивидуальной
заслугой, благим делом, за которое положена награда от божественного
Воздаятеля. Быть может, эти люди используют Бога только как воздаятеля,
как средство индивидуального оправдания. Поэтому порыв любви им
непонятен, ибо он не подвластен логике взаимовыгодного обмена.
Блудница ничего не выпрашивает. Она не кается, чтобы заслужить
прощение; не ищет выгодного обмена; не торопится обещать впредь
поступать правильно. Она только отдает – всю себя и все, что имеет. Она
сделала, что могла (Мк 14:8) – отважно, не боясь опозориться или
опозорить; в порыве безоглядной самоотверженности. Она возлюбила много
(Лк 7:47).
Молчание евангельской блудницы упраздняет закон, приводит в негодность
логику. Это молчание любви: говорят только ее дары. Любовь не заботится
о воздаянии. Наша душа, как всякая блудница, способна влюбиться, только
если обольщается недолговечными и разрозненными подачками: болтовней
логики, уверенностью в вознаграждении, которую дает закон. Любовь
рождается тогда, когда человеку «вдруг» становится очевидной тщета
торговли в любви. Тщета наших заслуг, добродетелей, репутации – тех
сокровищ, которым «вдруг» засияет единственная надежда на жизнь –
Воскрешающий мертвых. Нужно перейти в смерть, чтобы достигнуть любви.
Для религиозного окружения – для законников – слово эрос имеет лишь один
смысл: преступления, нарушения заповеди. Признать эрос означает признать
прегрешение, проступок. Всё измеряется только логикой закона: когда
разрешен эрос, что именно разрешено, а что запрещено до брака, внутри
брака, вне брака. Тревога и мучение для религиозных людей на всех
географических долготах и широтах. Логика «я», не совпадающая с истиной
любви. Когда всё позволено, ничем не жертвуешь, ничем не рискуешь и в
результате не можешь влюбиться; если же остаешься верным запрету, тогда
«я» опять-таки не дрогнет, его броня не сокрушится и, значит, любовь
вновь не сможет состояться.
Падение и крушение, унижение и нищета, вновь и вновь – до
бесконечности – отчаяние. И все для того, чтобы человек научился
отличать подлинное от мнимого; чтобы обрел свойственную зрелости
простоту души, которая позволяет видеть невидимое.
12. Cantus Finnus
О, ты прекрасна, возлюбленная моя,
Ты прекрасна! Глаза твои голубиные.
Взаимность выказывает себя во взгляде. Первый импульс всегда – невольная
остановка двух скрестившихся взглядов. Любовь рождается в свете. Взгляд,
улыбка, голос, жест, движение – грань между телесным и бестелесным:
место, где означивается взаимность.
Свет влюбленного взгляда переходит на уста. Улыбка – не сокращение
мышц, но сияние. Взгляд и улыбка нераздельны в едином свете: отблеск
единственности, всесокрушающее желание.
Затем наступает черед голоса. Его теплота, трепет желания, нежность,
которой не скроешь, хотя и стараешься. Голос разбивает тишину любовного
изумления, когда звук имени впервые слетает с уст Другого. И пока будет
длиться любовь, голос будет ее осязаемой, непосредственно ощущаемой
плотью в каждом слове. Слово исходит, воплощенное в музыке единственного
призыва.
Эта музыка перелагается в грацию движения, жеста. Грация означает ритм
красоты, зовущий к нежности: ощутимый призыв, как и музыка голоса.
Любовь меняет жесты, меняет походку, посадку головы, разворот плеч;
придает другой ритм телодвижениям – некую застенчивую танцевальность, в
которой угадывается сдерживаемая волна затаенной радости.
Тончайшие созвучия в безграничной гамме тонов – от эгоцентричности
вожделения до порыва самоотдачи, от безличной потребности присвоения и
обладания до последней самооставленности, до эротического кенозиса. От
смерти – до жизни.
Мы читаем любовь во взгляде, в улыбке, в грации движения. Тело говорит
языком души, душа высказывает желание жизни, и эта светоносная
выразительность не подвластна дефинициям.
Даже в самой эгоцентричной жажде наслаждения тело Другого есть нечто
большее, чем просто предмет вожделения. Оно есть знак вожделения; а
означаемое, хотя и не узнанное – сама жизнь. Вожделенное тело
артикулирует влечение как обещание; но внутренняя причина влечения идет
дальше тела Другого. Поэтому и наслаждение женщинами – наслаждение,
которое обещает женская красота, – не имеет конца.
Знак желания проявляется в месте красоты. На первой стадии это язык
телесной красоты и язык одежды. Когда взаимность желания преодолевает
относительность языка, тогда естественной становится нагота, отказ от
одежды. Тогда всё тело делается взглядом, улыбкой, грациозным ритмом,
непосредственностью влечения – ради полноты отношения, полноты жизни.
Нагота никогда не осуществляется до конца. Отсутствия одежды
недостаточно для того, чтобы открылась и была пережита нагота. Нагота –
это постепенно стяжаемое, но никогда не окончательное преобразование
знаков, преобразование языков, в которые облачается речь желания.
Непрерывно сменяющиеся переходы от языка созерцания к языку
прикосновений, от опьянения призыва к экстазу причастности.
Телесное стремление к наслаждению – стремление слепое, не видящее своей
подлинной цели – означивается в одежде или в наготе, во взгляде, улыбке,
голосе, жесте, телодвижении. Семантика света и радости обособляется,
перестает следовать прообразу эроса. Желание усваивает агрессивный язык
эгоцентрического стремления, силой заставляя отвечать на жажду
наслаждения.
Есть нагота любви, а есть агрессивная нагота, которая принуждает к
отношению, тем самым упраздняя его, превращая в сделку. Такая нагота
предлагается в качестве безличного предмета наслаждения, вне отношения,
вне взаимной самоотдачи. Она доставляет мимолетное удовлетворение
потребности либо льстит нарциссическому «я», которое ощущает себя
желанным предметом. Это нагота, ставшая товаром; нагота провокационной
печатной продукции, непристойных фантазий и порнографических зрелищ,
холодно-расчетливого «флирта». Это мятежный свет «спадшей с неба» молнии
(Лк 10:18)(2).
Нагота любви может быть только самоотдачей. Она не зависит от решения,
но рождается сама – как свет во влюбленном взгляде и улыбке. Рождается,
чтобы стать отказом от последнего бастиона самозащиты – от стыда. Стыд
есть природное средство обороны от эгоцентрических домогательств
другого. Я обороняюсь с помощью одежды; одеваюсь, чтобы оберечь свою
субъективность – не быть выставленным напоказ перед чужими взглядами,
как безличный предмет наслаждения.
Когда любовь прикасается к чуду взаимной самоотверженности и самоотдачи,
более не остается стыда, ибо не остается страха и самозащита больше не
нужна. Тогда все тело говорит языком взгляда, улыбки, радости. Тогда
весь человек становится всецело свет, и всецело лик, и всецело око –
благое даяние и совершенный дар. Он только отдает, только дарит себя, не
сопротивляясь и не сдерживаясь. В этой самоотдаче он окончательно
складывает оружие и выражает это языком откровенной наготы.
Любовь не ведает стыда, а потому не умеет придавать благочинный вид
своим восторгам. Любви по природе свойственно не стыдиться и не
рассчитывать меры.
То, что в агрессивной наготе выглядит вызывающе и отталкивающе – как
бесстыдство, бесчинство и отсутствие меры, – в подлинном эросе
«естественно» предстает как ослепительное сияние любви. Когда
по-настоящему отрекаешься от себя и отдаешься Другому, когда для тебя
важны только непотаенность и радость Другого, только его доверчивое
участие в наслаждении полнотой отношения – тогда нет больше запретов и
правил, меры благопристойности и стыдливости.
Эротическая нагота никогда не совершается вполне, ибо ее язык – язык «кенозиза».
Недостаточно снять одежду, чтобы явилась нагота: она должна облечься в
новые одежды самоотверженности и самоотдачи, непрестанно и бесконечно
выражая себя в изумлении отношения.
Эротическая нагота, язык «кенозиса»: обнаженным младенец Иисус лежал в
яслях; обнаженным принимал крещение в реке, как раб; обнаженным был
повешен на древе, как разбойник. И тем самым явил свою любовь к нам.
Апокалиптический смысл христианского Предания о воплощении Бога не
исчерпывается историчностью этого факта. Историческая личность Иисуса
являет в себе способ бытия Божьего: безграничную динамику эротической
самоотдачи, «кенозис» Бога в порыве любви к человеку. «Кенозис»
означает, что безвидный принимает зримую форму, неизреченный становится
речью. Форма и речь – плоть преходящего и недолговечного, плоть
тленного, способная, тем не менее, обозначить то, что беспредельно и
безвременно: личное присутствие подлинной жизни.
Элементом формы и языка служит всякий знак воплощения Бога, в том числе
зачатие Девой – зачатие, свободное от естественного стремления смертной
твари к самоувековечению. Бог (этот Другой для нашего желания жизни)
являет себя как Отец, животворное начало – как личностное бытие. Дева
становится матерью: эротическая потенция природы служит воплощению
подлинной жизни без посредничества мимолетного вожделения. Язык
означивает способ жизни, причем означаемое не подчиняется смысловому
знаку. Означаемое остается по ту сторону означающего, как остается по ту
строну всякого эротического со-бытия его участник – в динамичной
неопределенности «Другого» субъекта.
Бог исторического откровения и Другой эротического общения суть истина.
Истина () означает здесь непотаенность, личностную явленность. Истина
может быть только проявлением, только наготой «кенозиса», знаком
желания. Само же означаемое желание всегда остается запредельным,
недоступным для языка: оно достижимо лишь в непосредственности любовного
отношения.
13. Шсегсаге
Черна я, но красива.
Загорелое тело в сиянии летнего солнца. Бесстрашный блеск нагой
красоты. Потребовались века, чтобы дерзновенно пришло это опасное
бесстрашие, балансирующее на самом краю, на обоюдоостром лезвии ножа. С
одной стороны – панический страх пуритан, скрытая фобия, принявшая форму
отвращения души к собственному телу; с другой – романтический уклон,
нарциссическая ненасытность, хриплый голос страсти в нежной мелодии
чувств.
Дни сливаются в месяцы, месяцы собираются в года, года – в столетия.
Этот поток уносит сломанные жизни – единственные и неповторимые. Шаг за
шагом, мгновение за мгновением утекает жизнь, в мрачном сознании
виновности за собственное естество, стыда за собственное тело. Века
удушья в смертоноснейшем из лишений – в запрете на жизнь, в голоде
любви, пока отрава смерти не была извергнута в бунте. Ненавистный идол
ханжеского воздержания ниспровергли, чтобы тем ревностнее поклоняться
идолу наслаждения.
Идолов устраняют, как тромбы. Но поток жизни встречает и другое
препятствие – цивилизацию Просвещения. Эта цивилизация без корней,
внеположная терминам личного общения, оценивает красоту мерой
безличного, инстинктивного предпочтения. Здесь красота воспринимается
только как целесообразность самой природы, в основании которой
находится индивид как «биологический механизм». Красота – всего лишь
пред-метный раздражитель, вызывающий приятные ощущения в органах чувств
и доставляющий индивидуальное наслаждение. Она ни к чему не зовет, не
высвобождает отношение. Опыт отношения попадает в западню ноэтики
соотношений, механики стимулареакции. Загадка любви разрешается просто:
любовь – биологический механизм рефлексов и инстинктов.
Обнаженная сверкающая красота человеческого тела: чудо, явившееся в
мире, слепом к этому откровению. Явившееся, чтобы тленная плоть
воплотила в себе живое слово бесконечности, призыв к участию в
непосредственности всеобщего – воплотила землю, и море, и пурпурный
закат в осязаемой близости обнаженной красоты.
Но цивилизация с ущербным осязанием, не способная чувствовать отношение,
замораживает красоту, превращает ее в предмет созерцания, выставленный
на продажу. Растиражированная нагота повсюду, мертвое зрелище
неразборчивого эроса, когда непосредственная близость недостижима,
потому что между созерцаемым и созерцающим зияет бездонная пустота.
Столько веков неутоленной жажды, подавленных влечений, распаленного
лишенностью любви коллективного бессознательного – чтобы прийти к
цивилизации искусственных возбудителей отчаявшегося желания, к
цивилизации эротизма одиноких фантазий!
Просвещение было самой радикальной из революций сознания: лихорадкой
освобождения, распространившейся, словно огонь по стерне. Это было нечто
иное или нечто большее, чем идеология: переворот в мышлении, восстание
жизни, сокрушившее границы европейской религиозности. Просвещение
разорвало плотную социальную ткань, сотканную монизмом с его сухой
односторонностью: «средоточием человеческого» в нем был дух, а вершиной
духа – аподиктический разум. Природа мыслилась как область, подвластная
дьяволу; видимая реальность – как подчиненная а-логичности
«грехопадения». Всё чувственное омерзительно и сомнительно, ибо только
духовное и разумное сродно вечному. Телесные чувства – пути
проникновения зла; лучины, которыми разжигаются низменные инстинкты.
Наслаждение – запретный плод, грозящий смертью в нескончаемых муках
сомнительных влечений. Единственная возможность спасения – в безусловном
повиновении властным механизмам религии. Государство, нравственность,
общественные структуры и функции, смысл повседневной жизни – всё
подчинено безбрачному клиру, этому уполномоченному надзирателю за
соблюдением чуждого любви аскетизма, сродного с лишенностью и страхом.
Просвещение грянуло, словно молот по раскаленному, податливому железу, и
на несокрушимой наковальне логики перековало негодование в отречение.
Природа не нуждается в нелепом призраке Бога! Она сама по себе обладает
всем необходимым, чтобы поддерживать ход вселенских часов. Человеческая
наука разобралась в часовом механизме и нигде не нашла сокрытого в нем
Бога, зато обнаружила врожденную природе разумность и силу. Человек –
тоже природа: в соответствующих условиях материя сама порождает дух.
Эфемерный и смертный, человек должен наслаждаться чувственной жизнью в
безудержных удовольствиях. Всякий другой «смысл» существования есть
лишенность, вина и нищета. Логика определяет границы наслаждения,
устанавливает законы; государство вносит порядок в социальное бытие.
На той же несокрушимой наковальне логики выковало свой мир и ставшее
религией европейское христианство. Просвещение сражалось оружием
противника: вместо фантастического Бога – фантастическая Природа; вместо
индивидуальной силлогистики – индивидуальная верификация в опыте,
математическая интуиция, врожденные идеи, индивидуальные восприятия,
индивидуальный психологический опыт. Оболочку меняет всё тот же
замкнутый в себе индивид. Под именем религиозного рационализма или под
именем позитивной науки – всё та же броня, призванная обеспечить
безопасность субъекта в его чуждом любви индивидуализме.
Еще не покинувшее лоно религии, скованное дуализмом природы и
субстанции Просвещение искало подлинно сущее в определениях сущностности –
читая их по складам так же, как это делали западные теологи. Оно даже не
подозревало о сокровенном языке восточных богословов, о революционном
ниспровержении границ в познании подлинно сущего.
Там, где восходит подлинное просвещение, знание не ограничивается
семантикой дефиниций, но становится опытом отношения. Отношение – это
событие участия в энергиях природы. Природные энергии доступны в
непосредственности опыта; они являют способ личностной инаковости,
который распространяется на всю целокупность личностной красоты мира.
Ничего не подозревая, Просвещение скользит к зияющей пропасти, где
исчезает всякое личностное бытие, – скользит вместе со своими десятками
тысяч страниц изысканного красноречия. Оно искусно подбирает доводы,
призванные подорвать небытие – мнимые смыслы богословской силлогистики.
Но, как назло, порох не зажигается: скептицизм тормозит, релятивизм
раздражает, нигилизм заводит в тупик. Существование так и остается
лишенным опоры и смысла, материя – необъяснимой, космический механизм –
вверенным произволу надмирной «случайности».
Гоббс, Локк, Юм,
Пуфендорф, Мор, Мопертюи,
Бюффон, Бэкон, Вольтер,
Дидро, Д'Аламбер, Кондильяк,
Бейль, Лейбниц, Ламетри,
Гольбах, Мелье, Бонне,
Беркли, Тюрго, Дюбуа,
Шефтсбери, Бутлер, Руссо.
Независимо от того, совпадают они или нет в своем суетном копании в
реальности, на их бесчисленных страницах – всегда одна и та же
онтологическая пустота. Вызывающая тошноту качка, неустойчивость
преходящих мгновений. Мозг раскалывается, нигде не находя ни надежды, ни
смысла. Существование – заложник власти случая или «божественного»
самоотречения. Осязаемое – фантастический покров, за которым скрывается
пустота, ничто. И при этом – яростный фанатизм в отстаивании пустоты.
Именно оно толкает к «открытиям», присягает «прогрессу», «развитию»,
«реабилитации чувственности», «восстановлению природы в правах».
Мрачное «Просвещение» с его знанием, скованным причинными или
регулирующими «принципами» реального, существующего. Оно трагически
упорствует в попытке определить жизнь, то есть упразднить динамичную
неопределенность отношения, исчерпать знание в пред-метном смысле, в
поддающемся описанию ощущении. Просвещение, ограниченное во всех своих
попытках найти прибежище в «интуиции», «усмотрении», «бытийном
психологическом опыте» — ибо только будучи ограниченным, субъективное
принимает вид объективной достоверности.
Цивилизация, чуждая любви, не способна «бросить цветок посреди моря»,
воспринять истину, отказавшись от эгоцентрического стремления обладать
ею. Любовь – единственное знание, возможное на краю последних вопросов.
Вопросы остаются без ответа, достоверность затягивается мглой, если
истина – это жизнь, и если к жизни можно приобщиться только в напряжении
самоотдачи.
В чем причина возникновения мира, материи и жизни; в чем начало
движения, объяснение «природного зла», тления и растления? Почему
неравно распределяются между людьми дарования и страдания, почему именно
таковы наше происхождение, наша наследственность, наш пол? Всякая
попытка дать определение оборачивается непреодолимой пропастью пустоты,
вызывающей паническую дрожь.
Разрушение просвещенческих достоверностей вызревало в самом святилище
науки. В каком чувственном восприятии нам дано «поле», с его
двойственностью «элементарной частицы» и «волны»? Что означает
десятимерное пространство на субатомном уровне? Что представляет собой
не-пространство головокружительного расширения Вселенной; куда
расширяется Вселенная с непостижимой быстротой, если пространство (и
время) есть лишь переменная величина, которая зависит от
материи-энергии? Как представить себе мысленно «искривленность»
пространства-времени; пространственные расстояния между элементарными
частицами, которые оказываются безместными универсальными связями;
конечность Вселенной, которая, однако, не имеет установленных границ, и
потому мы говорим, что Вселенная безгранична, хотя и не бесконечна?
Наконец, как определить метафизику, если даже физика, природа, остается
неподвластной интеллектуальному постижению? Математическая символика,
партитура формализованных уравнений подобна символическим образам,
выражающим опыт непосредственной эротической близости. Это единственный
язык, в котором посвященному в таинство знаковых изображений слышится
отзвук подлинносущего и неизреченного.
Если бы Бог определялся правилами схоластической силлогистики,
необходимыми предписаниями ньютоновской картины мира, просвещенческими
регулирующими принципами моральной целесообразности, он был бы менее
свободным «богом», чем непредсказуемые феномены субатомного мира. Чудо
Вселенной и драма свободы обернулись бы иллюзиями обожествленной
самодостаточности, а любовь – прикрытой чувствами пустотой.
Взгляд и улыбка нагой красоты; тело в смуглом сиянии лета;
благоуханность и сочность спелого персика, изумрудная прозрачность
морской бухты. Только осязаемая благодать отвечает на последние вопросы:
благодать как дар, как призыв к красоте отношения. То, что призывает, не
заперто в понятии; у него есть имя и лицо. Призыв ведет за собой
желание, чтобы вывести его к бескрайним просторам единственно подлинной
нежности.
14. Reprise
Садовый источник – колодезь живых вод
И потоки с Ливана.
Если глядеть сквозь призму идеального, образ любви раздваивается.
Любовь к Богу и любовь к человеку в преломлении через призму
совершенства – это две несовпадающие любви. Божественный эрос – чистое
очарование, непорочный духовный восторг. В нем истреблена всякая связь
со страстными человеческими удовольствиями, с вожделениями, берущими
начало в теле; с эмоциональным возбуждением от наслаждения. Беспорочная
чистота, оберегаемая в пределах умопостигаемого, бестелесного.
Но разве логовище леопарда – только в теле? Разве оно не в обоюдоостром
естестве? Что питает его – только ли трепет плоти или также сладость
благочестия? Где тот свет, который среди призраков умопостигаемого и
бестелесного высветит очевидное? Наше «я», с его хищной, неукротимой
алчностью, подчиняет Бога мертвому понятию, облекает мертвой любовью,
гарантированной навеки.
Глядя через призму умопостигаемой идеальности, как отличить влечение к
Богу от стремления вернуться в материнскую утробу, от иллюзии обладания
нерушимыми гарантиями?
Конечно, любовь искажается, преломляясь через призму тела. Но разве
призма души не обладает большей силой преломления? Сколько раз она
искажала любовь к Богу в кривых зеркалах силлогизмов, в «необходимых
свойствах», в калейдоскопических проекциях чувственных образов на
умопостигаемое абсолютное! И всё это – ради наслаждения
самодостаточностью восприятий; ради того, чтобы удовлетворить жажду
достоверностей и благодаря им ощутить собственную бесконечность. Всё
это – из-за неукротимого стремления укрыться броней трансцендентных
гарантий.
Вера и добродетель – полюса преломления желания в широкий спектр
корысти. Извращенная непримиримость, за которой кроется наслаждение:
наслаждение замкнутостью в скорлупе догматов, самовлюбленным
морализаторством; ростовщическая ненасытность внешними авторитетами.
Желания плоти – ничто в сравнении с неутолимыми аппетитами сверх-Я.
Плоть – пехота, а «вера» — конница в том сражении, которое идет в
неукротимой жажде безусловности; «добродетель» же галопом мчится к
соблазнам самовлюбленной духовности. Эта бешеная страсть, оргазм
самопочитания, восхищения самим собой называется религией.
Невооруженный, непредвзятый, прямой взгляд. А источник света и мерило –
любовь: мерило самоотверженности и самоотдачи. Любовь обращена либо на
Бога, либо на человека, ближнего; но всегда сопровождается одним и тем
же любовным экстазом, что как бы «примешано» к возможностям нашего
естества.
Подлинная любовь, – говорит этот прямой взгляд, – всегда представляет
себе лик возлюбленного и радостно заключает его в себя. Подлинно любящий
уже не может успокоиться от вожделения даже во сне, он и там непрестанно
обращается к вожделенному. Так обыкновенно случается и в отношении
телесного, и в отношении бестелесного. И далее с предельной ясностью
заключается: блажен тот, кто стяжал такую любовь к Богу, какую стяжал к
своей возлюбленной безумно влюбленный.
Мерило любви к Богу – безумное влечение к человеческой личности. Мерило
невозможного свершения – и потому блажен тот, кто его достигает. Но это
мерило «врождено» нам, дано природой: не бывает так, чтобы мы любили
Бога одной любовью, а любимого человека – другой. Одна и та же любовь
как «в отношении телесного», так и «в отношении бестелесного». Если
леопард подстерегает нас не только в глухой чащобе телесности, то именно
по той причине, что драгоценная добыча – вот эта рожденная от двух
природ эк-статичность вожделения – прячется в нашем двойственном
естестве.
Мерилом человеческой любви к Богу не может быть ни бестелесное и
умопостигаемое, ни определенная законом «чистота». Ее мерило – только
вожделение, но – вожделение к личности, вожделение к Другому, к тому,
кто вне меня. Вожделение, в котором существование претворяется в
желанное отношение, где отношением становится бытие.
Блажен безумно влюбленный, блаженна бездонность безумия. Только в
восхождении из бездн рождается улыбка. И эта улыбка, за которой нет
корысти, и есть любовь. Только здесь берет начало вкус к жизни. Среди
вихрей хаотичной, ненасытной, еще безличной эротической жажды уже
пробивается сокровенный цветок: преображение плоской ненасытности в
неудержимый порыв к сверканию Инаковости. Бездна призывает бездну, и
этот призыв имеет имя: о нем свидетельствуют с предельной ясностью слова
пустынника:
Видел я нечистые души, безумствующие от телесной любви; и они же, приняв
оправдание покаяния, но прежде испытав любовь, ту же самую безумную
любовь обратили к Господу. И, тотчас преступив всякий страх, ненасытно и
всецело предались любви к Богу. Поэтому Господь не говорит о той
целомудренной блуднице, что она много убоялась, но что она много
возлюбила и легко смогла любовью оттолкнуть от себя любовь.
Пережив опыт плотской и слепой любви, блаженные обратили ту же любовь
на Лик ослепительной Красоты. Прежняя безличная похоть, подобная
наказанию данаид преобразилась от объятий пылкого Жениха. Ее больше не
страшит утрата других, безлюбовных объятий.
Любовь наступает, словно утро, прогоняя тень ночного страха. Поэтому
признак подлинной любви – ясное бесстрашие. Кто обрел опыт счастливой
взаимности, тот не ведает страха, потому что ни на что не притязает.
Отрекшись от всего, он обладает всем. Он продал всё, что имел. Всё. И
купил драгоценную жемчужину.
Богатству бескорыстной любви противостоит чуждый любви стяжательский
пафос религиозного оправдания. Трагическая цена безлюбья, заплаченная во
имя религиозного эротизма. Эту лишенность испытывает всякий, кто в своем
ложном благочестии не знает любви, кто страдает манией стяжания заслуг.
Он отчаянно цепляется за закон, чтобы обеспечить безусловное оправдание
своей трагической лишенности; а закон преобразует недостаток любви в
избыток агрессивного пыла. Кто не познал эроса, тот становится черствым,
беспощадным обличителем всякой слабости, всякой человеческой неудачи.
Безжалостным ко всем, кто не страдает вместе с ним от неизбывной
лишенности.
Каждая «догма», каждое «вероисповедание» рождает свой тип человека,
«посвященного» Богу. Часто таким человеком, независимо от географической
широты и долготы, движет один и тот же страх – он панически боится
утратить хрупкое общественное признание собственной «посвященности»:
вдруг он запятнает свою репутацию, поставит под сомнение свое доброе
имя, свою духовность – следствие лишенности? Он любит собственную «посвященность»,
собственную обожествленную непорочность, а не Бога.
Когда «непорочность» оборачивается «горечью», жизнь в человеке
омрачается. Враждебная темнота – но в самом себе не заметная. Больше
нет сил выносить эту лишенность, эту эротическую неудовлетворенность; но
человек не видит, не отваживается увидеть ее невыносимость. Крушение
своей стойкости, свое поражение в мире он со слепой фанатической
убежденностью простирает вовне: будто катастрофу переживает общество
или весь мир.
Лишенность любви всегда рождает гневных прокуроров или мрачных пророков.
Первые громят «загнивание общества», «разложение семьи», «падение
нравов». Вторые провидят конец мира, вселенскую катастрофу, близость
последних времен. Они переносят на мир меру собственной стойкости, но –
с обратным знаком. Однако стойкость истощается, трагедия неумолимо
близится к концу, а вместе с нею и весь мир, бессознательно
отождествленный с собственным «я».
Как отделить подлинно сущего Бога от призрака, воплощенного в зыбкости
отсутствующих гарантий? Призрака, чей угрожающий окрик слышится в
лабиринтах правовых норм, где меру нашей лишенности определяет слепой
вершитель грядущего возмездия. Мы бы и хотели, чтобы он был гарантом
нашего «я», но он только измеряет, а потому сам представляет для нас
угрозу. Страх проверки, проверка страхом: мрачный кошмар нашей
искалеченной жизни.
Первый проблеск возможности нащупать реальность – отказ от всех
индивидуальных чаяний и стремлений. «Пусть Он осудит меня сто, тысячу
раз – лишь бы Он существовал!» Реальность проговаривается только языком
любви. Сбрасываешь с себя защитный покров смысла и погружаешься,
ничтожась, в пустоту, в Ничто. Тогда свобода незнания оказывается
«превыше всякого знания». То, что превыше, – не сама пустота, но прыжок
в пустоту. Каждому честному ныряльщику угрожает явная опасность быть
проглоченным китом. Там, во глубине сердца морей, в бездонном чреве
кита, Бог есть нареченный Жених, а истина Его – все-целостъ любви.
Сам эрос и есть любовь, написано же, что Бог есть любовь. Что есть в
действительности, а что мыслится, мы различаем благодаря ощущению, как
различаем пламя и его отражение. Непосредственное ощущение тепла,
осязаемый жар. И тогда язык речет откровение: Сам Виновник всего сущего…
по причине избытка любовной благости исходит вне себя… и как бы
очаровывается благостью, любовью и эросом. И, будучи превыше всего и
запредельным всему, он тем не менее снисходит в недра всего в
экстатической и сверхсущностной силе, сам оставаясь неуделимым.
Если Бог и бытийствует, и познаётся по способу любви, то лишь этот
способ и может служить ключом к истине того, что существует по способу
беспредельности. Но этот способ есть самое трудное при восхождении на
вершину. На каждом шагу – непролазные дебри телесной жажды наслаждения
и использования другого человека, утробный рев слепого вожделения.
Реальность дробится в обманчивых отражениях, шаг сбивается, способ
естества сплетается со способом любви.
На языке живого откровения мы называем аскезой не индивидуальное
упражнение в обуздании страстей, но ежедневное продвижение к
самоотречению и самоотдаче. Цель его не в том, чтобы отринуть природу,
но в том, чтобы преобразить способ ее бытия. И это преображение
заключается не в одном лишь призрачном ограничении желаний через их
узаконение.
Образцом такого преображения может служить то, как трактуется
прелюбодеяние в Евангелиях. Здесь важно не правовое преступление, не
попрание естественного института брака; потому и осуждается не сам факт,
квалифицируемый в границах права, но тот первый росток, из которого
вырастает древо вожделения. Осуждается семя овладения: А Я говорю вам,
что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал
с нею в сердце своем (Мф 5:28). И легкости развода, предоставляемого
законом евреев, Евангелие противополагает не другое, запретительное,
предписание, а способ жизни, запечатленный в книге Бытия: И будут одна
плоть (Быт 2:24). Эту единую плоть сопряг Бог: это Он вложил в нашу
природу образ подлинного общения, каковое существует между Ипостасями.
15. Imitation
Вся ты прекрасна, возлюбленная моя,
И пятна нет на тебе.
Вся природа прекрасна в ее целостности – и ближе всего к жизни. Моя – и
не моя, ближайшая и отдаленнейшая в своей непосредственности. И никогда
не окончательная, не постоянная, никогда не уловимая в описании.
Природа есть знак становления, слово, собирающее в себе лад, а лад –
голос красоты, властный призыв жажды отношения. Призыв воспринимается
чувствами, отношение же неощутимо. Ощутимая дистанция и неощутимая
близость, подобно изумрудной ясности берега и бездонной бесконечности
морской дали. Неосязаемая близость, пленительная, словно улыбка.
Тело земли, ослепительный блеск природы, зовущая красота мира, зримая в
теле человека. Зеленеющие холмы – и розовая нежность изгибов тела.
Мерный ритм берегов, изящество маленьких бухт, живой трепет, пробегающий
по кожице спелого плода. Легкая походка девушки вызывает в памяти плеск
воды, бегущей по песчаному руслу. Белизна девичьих ног, словно
выточенных из алебастра, изливается в упругую плоть лилий; груди – как
двойни серны, вся нежность цветов трепещет в них, и подобны цветочным
пестикам пьянящие сосцы. Шея – упругий стебель, волосы – стадо ягнят,
спускающихся с горного склона. Улыбка ее – рассветный луч, глаза –
весеннее небо, отразившееся в прозрачности озера.
Хмель весны кружит голову букашкам среди цветов. Налетает порывами ветер
с севера; южный ветерок овевает отяжелевшие ветви, опьяненные тела; шум
моря запевает в упругих чашах потаенных лилий. Природа в томлении
желания.
Природа мира уже была стройной мелодией, зачином неудержимого
вселенского порыва вожделения, зовом к любовному соитию. Образ бытия
природы – логос, воплощенный в разделении людей на мужа и жену. Тогда
увидел Бог всё, что Он создал, и вот, хорошо весьма (Быт 1:31). Как
может быть природа хороша весьма, если она заключает в себе возможность
смерти? Но так же можно спросить и о свете: заключает ли он в себе
возможность тьмы, или же тьма есть только отречение, добровольное
уклонение от живительного световодительства? Флейта природы играет не
только напев жизни; она может пропеть и мелодию смерти. Строй и лад – в
воле флейтиста.
Природа, любовный напев Первомастера, была и остается чудным отзвуком
жизни. Тварный напев – эхо нетварной гармонии, бесконечной жизни. Но он
может звучать и в тональности смерти, конечной самодостаточности
творения.
Я сказал: вы – боги, и сыны Всевышнего – все вы. Но вы умрете, как
человеки (Пс 81:6-7). Мы не знаем, что мы есть; знаем только нашу
естественную тленность и смертность. Осязаемо и достоверно лишь то, что
мы отвергаем; то, чего вожделеем, – неверно и недоступно. Бессмертие –
призрачная идеологема, желание – только бесплотная надежда. Но
действительно ли нам ведомы границы природы и благодати, ведомо
существование по ту сторону тления и смерти?
Если подвластность природы тлению есть только возможность, а не
необходимость; если она зависит от человеческой свободы, тогда свобода –
еще большее чудо, чем природа. Вместе с природой человеку даруется
бытие, вместе со свободой – возможность отвергнуть его, сказать дару и
Дарителю «нет». Если это в самом деле так, тогда свобода выражает
абсолютное уважение Бога к Своему творению. Уважение, головокружительное
для мысли. Потрясающая мера любви, которая неизменно подчиняется
возлюбленному, никогда не подчиняя его.
Для мысли головокружительна природа, подчиненная свободе как мере
безмерного уважения к человеку. Насколько реально это головокружительное
утешение? Настолько же, насколько реальна геометрия искривленного
пространства в сравнении с эмпирически данным пространством Евклида.
Эмпирическое незнание, возможно, являет даже больше того, что являет
непосредственность ощущения. Мы знаем, что наша евклидова природа
смертна независимо от нашего желания и свободы. Стремление к
самоутверждению, увековечению, господству: этот треугольник задан самой
природой, не зависит от нас, и сумма его углов всегда равна смерти. Ибо
не понимаю, что делаю: потому что не то делаю, что хочу, а что
ненавижу, то делаю… Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей,
доброе… В членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума
моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах
моих (Рим 7:15-23).
Ум – наше сокровенное «я», или душа – есть пристанище свободы,
неисчерпаемый источник абсолютности; а тело, даже его малейшая часть, –
очаг предопределенной непокорности, неутолимого стремления к тому,
чтобы оказаться в плену необходимости. Не знающая покоя раздвоенность,
непримиримость в притязании каждой половины нашей самости на право
называться целым.
Прекрасен на вкус и приятен для глаз брачный плод желания. Призыв жизни
к слиянию, к со-бытию с плотью цветов, сочностью спелых фруктов,
свежестью влюбленной юности. Это половина моей правды. А другая
половина – бесплодный бунт вожделения, облеченный в форму притязаний
твари, отказа от отношения.
Всякое творение Божие хорошо и ничто не предосудительно, если
принимается с благодарением (1Тим 4:4). Благодарение, этот ответ на зов
красоты, означает благость. Призыв был услышан. Дар принимается с
признательностью, отношение с Дарителем становится реальностью, и
всякий, абсолютно всякий повод к отношению хорош. Отношение есть
красота жизни, а благодарность – мера и мать красоты.
Новизна, которую несет с собой христианское откровение, заключается в
том, что в личное отношение претворяется даже отрицание отношения со
стороны естества. Подвиг любви. На зов жизни приходит смерть – но
приходит в любви. Что имею, то отдаю вам. Имею – только смерть, мое
единственное бытийное достояние. Ее и приношу вместе с благодарением.
Благодарение возникает в ответ на призыв и потому, что существует
зовущий. Благодарение за одно то, что он существует. Возлюбленный моей
смертной любви и любящий ее. Его призыв делает мой личностный ответ
бессмертным. Насколько призывает Любящий, насколько Он призывает в
безмерности настоящего, настолько существует и любимый как любящий
взаимно. Заря присутствия – только в Воскрешающем мертвых. Зачаток
бессмертия – только в любви.
Природа жаждет спасения; любовь – взаимности: чтобы существовал тот,
кто любит, животворный знак красоты. Притязание природы отрицает
отношение; а любовь даже этот природный отказ претворяет в личностную
самоотдачу. Она с наслаждением принимает уничижение своего естества.
Сладостная потерянность в безбрежии взаимности.
Зов красоты, азы жизни, выговариваемые в лепете благодарности. Этот зов
не призрачен: он укоренен в плоти естества, рождающей бездну желания. Но
желание бессмертия встречается с призывом взаимности. Так рождается
любовь. Тогда, и только тогда, жизнь претворяется из естества в
отношение. Как может быть природа хороша весьма, если она заключает в
себе возможность смерти? Но так же можно спросить и о свете: заключает
ли он в себе возможность тьмы, или же тьма есть только отречение,
добровольное уклонение от живительного световодительства? Флейта природы
играет не только напев жизни; она может пропеть и мелодию смерти. Строй
и лад – в воле флейтиста.
Природа, любовный напев Первомастера, была и остается чудным отзвуком
жизни. Тварный напев – эхо нетварной гармонии, бесконечной жизни. Но он
может звучать и в тональности смерти, конечной самодостаточности
творения.
Я сказал: вы – боги, и сыны Всевышнего – все вы. Но вы умрете, как
человеки (Пс 81:6-7). Мы не знаем, что мы есть; знаем только нашу
естественную тленность и смертность. Осязаемо и достоверно лишь то, что
мы отвергаем; то, чего вожделеем, – неверно и недоступно. Бессмертие –
призрачная идеологема, желание – только бесплотная надежда. Но
действительно ли нам ведомы границы природы и благодати, ведомо
существование по ту сторону тления и смерти?
Если подвластность природы тлению есть только возможность, а не
необходимость; если она зависит от человеческой свободы, тогда свобода –
еще большее чудо, чем природа. Вместе с природой человеку даруется
бытие, вместе со свободой – возможность отвергнуть его, сказать дару и
Дарителю «нет». Если это в самом деле так, тогда свобода выражает
абсолютное уважение Бога к Своему творению. Уважение, головокружительное
для мысли. Потрясающая мера любви, которая неизменно подчиняется
возлюбленному, никогда не подчиняя его.
Для мысли головокружительна природа, подчиненная свободе как мере
безмерного уважения к человеку. Насколько реально это
головокружительное утешение? Настолько же, насколько реальна геометрия
искривленного пространства в сравнении с эмпирически данным
пространством Евклида. Эмпирическое незнание, возможно, являет даже
больше того, что являет непосредственность ощущения. Мы знаем, что наша
евклидова природа смертна независимо от нашего желания и свободы.
Стремление к самоутверждению, увековечению, господству: этот
треугольник задан самой природой, не зависит от нас, и сумма его углов
всегда равна смерти. Ибо не понимаю, что делаю: потому что не то делаю,
что хочу, а что ненавижу, то делаю… Ибо знаю, что не живет во мне, то
есть в плоти моей, доброе… В членах моих вижу иной закон,
противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона
греховного, находящегося в членах моих (Рим 7:15-23).
Ум – наше сокровенное «я», или душа – есть пристанище свободы,
неисчерпаемый источник абсолютности; а тело, даже его малейшая часть, –
очаг предопределенной непокорности, неутолимого стремления к тому,
чтобы оказаться в плену необходимости. Не знающая покоя раздвоенность,
непримиримость в притязании каждой половины нашей самости на право
называться целым.
Прекрасен на вкус и приятен для глаз брачный плод желания. Призыв жизни
к слиянию, к со-бытию с плотью цветов, сочностью спелых фруктов,
свежестью влюбленной юности. Это половина моей правды. А другая
половина – бесплодный бунт вожделения, облеченный в форму притязаний
твари, отказа от отношения.
Всякое творение Божие хорошо и ничто не предосудительно, если
принимается с благодарением (1Тим 4:4). Благодарение, этот ответ на зов
красоты, означает благость. Призыв был услышан. Дар принимается с
признательностью, отношение с Дарителем становится реальностью, и
всякий, абсолютно всякий повод к отношению хорош. Отношение есть
красота жизни, а благодарность – мера и мать красоты.
Новизна, которую несет с собой христианское откровение, заключается в
том, что в личное отношение претворяется даже отрицание отношения со
стороны естества. Подвиг любви. На зов жизни приходит смерть – но
приходит в любви. Что имею, то отдаю вам. Имею – только смерть, мое
единственное бытийное достояние. Ее и приношу вместе с благодарением.
Благодарение возникает в ответ на призыв и потому, что существует
зовущий. Благодарение за одно то, что он существует. Возлюбленный моей
смертной любви и любящий ее. Его призыв делает мой личностный ответ
бессмертным. Насколько призывает Любящий, насколько Он призывает в
безмерности настоящего, настолько существует и любимый как любящий
взаимно. Заря присутствия – только в Воскрешающем мертвых. Зачаток
бессмертия – только в любви.
Природа жаждет спасения; любовь – взаимности: чтобы существовал тот,
кто любит, животворный знак красоты. Притязание природы отрицает
отношение; а любовь даже этот природный отказ претворяет в личностную
самоотдачу. Она с наслаждением принимает уничижение своего естества.
Сладостная потерянность в безбрежии взаимности.
Зов красоты, азы жизни, выговариваемые в лепете благодарности. Этот зов
не призрачен: он укоренен в плоти естества, рождающей бездну желания.
Но желание бессмертия встречается с призывом взаимности. Так рождается
любовь. Тогда, и только тогда, жизнь претворяется из естества в
отношение.
16. Interlude
Пойдите и посмотрите, дщери Сионские,
На царя Соломона в венце,
которым увенчала его мать
в день бракосочетания его,
в день радостный для сердца его.
Пойдите и посмотрите! Чтобы посмотреть, нужно сперва пойти. Если не
перешагнуть порог безопасного жилища, не отойти от внутренней
самодостаточности, то зримое преломится в призрачные подобия. Царство и
венец, день и мать, радость и брачный чертог останутся воображаемыми
описаниями чувственных впечатлений, если нет смелости выйти навстречу
отношению с реальностью.
Онтологией мы называем размышление или вопрошание о реальности, шаг
выхода навстречу риску отношения; психологией - замкнутость в
эндогенной самодостаточности психического опыта: вот так я понимаю, так
чувствую, и с меня довольно. Субъективный опыт довольствуется
созерцанием, ограничивает познаваемое рамками чувственного восприятия.
Вот так я понимаю Бога, так чувствую любовь, свободу. Я прохожу мимо
мысли или вопроса о реальности, обособляясь в чувственной
самодостаточности.
Цивилизация заговаривает робость, называя «наукой» о реальности
методичное описание феноменов. Вовремя отвернувшись от онтологического
вопрошания, не отваживаясь выйти навстречу отношению, она подменяет
онтологию психологией. Такова сегодняшняя цивилизация, наш собственный
образ жизни.
Ощущения – силки: с их помощью охотятся за предпочтениями, уловляя их в
косности «убеждений». Напрасно бьется логика предпочтений: ей не дано
обосновать свой выбор. Патологическая безудержность в потреблении
«чувственных раздражителей», разгульный пир впечатлений. Впечатления
порождают мнения, предпочтения - веру. И неизменно уловляются ловушкой
чувственности.
Идеологические мобилизации, политические пристрастия, религиозные
убеждения, нравственные догматы, правила благочестия, культовые шаблоны
— всё это порождения самодостаточности, глядящей только внутрь себя.
Они растут, беспечно обходя требования реальности, уклоняясь от трудной
задачи взросления, принятия на себя ответственности, которая сопряжена с
отношением. Царство и венец, радость и брачный чертог некогда означали
вступление в самое главное отношение — в отношение брачного слияния.
Архетипический образ брака — всегда образ веселого, радостного
праздника. Радость и праздник отплытия в неизведанную реальность,
навстречу приключениям жизни: отлучение от родительского крова, риск
совместного существования, исполненное надежд цветение страсти,
ответственность за прокормление семьи, ожидание чуда — рождения детей от
плоти любви. Архетипический образ брака всегда овеян радостной надеждой.
Долгие века вступление на поприще брака означало мучительное притирание
в грубой тесноте будней. Жизнь не давала долго парить в полете чувств. В
жестокой борьбе за существование, в мучительном усилии приходилось
преодолевать нищету, осиливать нужду трудом. Природа, сопротивляясь
попыткам ее использовать, всякое отношение превращала в подвиг. Потому
и связи между людьми были реальными: приданое жены, ремесло или
хозяйство мужа, дети смягчали напряжение жизненной борьбы. Осязаемая
данность нужды - вне чувственных предпочтений. Не зависят от них и
внешние, ощутимые обличья радости: хозяйство, налаженное в ритме
прочного достатка; дети, растущие в родительской любви; общественное
признание дарований и добродетелей; пиршество тела, сеющего жизнь, и
радость видеть, как она возрастает вокруг тебя.
Цивилизация робости умножает гарантии. Сопротивление природы одолевается
техникой, тяжелый физический труд либо сведен к минимуму, либо
отсутствует. Заработать на жизнь легко — по силам даже одинокой
женщине; рабочий день часто сокращен. Жизнь становится всё безопаснее,
система социального страхования — всё крепче, родственные узы — всё
ненужнее. Даже профессия означает лишь частную сделку купли-продажи, не
имеющую ничего общего сответственностью вхождения в социальные связи:
труд - частный товар, который продается за соответствующую цену и
встраивается в механизм производства. Наконец, даже собственную жизнь
мы измеряем показателями производства и потребления. Жизнь сужается,
замыкается в одиночестве частного существования, в индивидуальном
регулировании доходов и расходов. Искусство, религия, любовь, свобода —
всё это товарные массы, призванные служить удовлетворению индивидуальных
вкусов потребителей. А индивидуальные вкусы уже заранее определены
ненасытностью ощущений.
Так архетипический образ брачного празднества уродливо искажается в
мутном зеркале чувственности. Есть только частные предпочтения, а брак,
который больше не выходит на простор социальной жизни, просто вносит
разнообразие в бесконечный круговорот желаний. Напряженность
потребности ослаблена, но отношение не включается в социальное тело, и
теперь пространство свободно, чтобы начать строить в нем воздушные
замки. Теперь главные требования – понимание, нежность, терпимость,
уважение индивидуальных чувств и мнений. Таковы новые потребности
человека, ведущего частный образ жизни, эмоционально самодостаточного и
не отваживающегося на отношение.
Вершина брачных чаяний чувственности – полнота телесной любви. От эроса
ждут, что он будет непрестанно возносить над трясиной обыденности,
«возвышать личность» человека, содействовать ее развитию и возмужанию,
дабы гарантировать взаимность влечения, нежность, эмоциональную
гармонию. Заранее прочерчивая границы желанного, люди даже не
подозревают о той радости, какую доставляет приключение отношения,
познание реальной жизни.
Поэтому, когда ожидания не сбываются, все воздушные замки рушатся сами
собой. Естественное следствие этого – развод. В цивилизации чувственной
ненасытности развод есть правовой институт, уравновешивающий
авантюрность брака. Можно вновь пуститься на поиски предначертанного
желанного, тому порука – право частным образом решать вопрос о
расторжении брачных уз. Любовная связь до брака или вне брака, ни к чему
не обязывающая и непредосудительная в глазах общества, – обычное
приключение придирчивого вожделения. Расчетливая свобода избавляет его
от любых ограничений, любого усилия отношения.
В обществах, где культурные преобразования не успели смести традиционные
устои, множество людей, живущих в браке, испытывают трагическую
растерянность. Считая косный институт брака гарантией для себя, они
контрабандой вводят в него сомнительное право на свободу выбора.
Душевную неудовлетворенность они пытаются компенсировать осторожными
поисками вне брака, надевая при этом личину жертвы: вдруг удастся
выгадать мимолетное сочувствие и ласку? Или, по малодушию отстранившись
даже от таких ни к чему не обязывающих поисков, они компенсируют свое
неудовлетворенное желание развязной речью или похотливым пристрастием к
печатной и кинематографической порнографии.
Обнадеживающий симптом в нашей ностальгии по отваге: та глубокая
вспашка, которая называется культурным преобразованием, до предела
обнажила недостаточность как частных гарантий в виде правового
института брака, так и опасного балансирования на лезвии чувственности.
Институт брака безумно расточителен; от него во множестве случаев
остаются лишь обломки, подсчитанные статистикой разводов; а итогом
увлеченного порхания от партнера к партнеру становятся всё те же
обманутые ожидания. Когда мы ищем выгоды для себя, нам не удается
сохранить равновесие интересов партнеров, ни опираясь на правовые
формулы, ни предаваясь разгулу чувств.
Служанка естества, религия отчаянно сопротивляется, пытаясь поставить
под контроль институт брака, чтобы не погибнуть вместе с ним. Она щедро
раздает благословения на законное «соединение жребием всей жизни», с
маниакальным упорством играя на стороне природы и требуя подчиниться
потребности в увековечении биологического вида, биологической
необходимости продолжения рода. Религия никогда не проявляла интереса к
мотивам, побуждающим людей к вступлению в брак, и не исследовала их: то
ли это любовь, то ли сделка, то ли тонкий расчет и соображения престижа,
то ли горечь подчинения неумолимой необходимости деторождения. Брак
благословляется вслепую, с закрытыми на жизнь глазами; у него лишь одно
осязаемое мерило – правовая безупречность. В великом множестве правил и
предписаний схоластически пережевываются одни и те же предварительные
условия вступления брак.
На протяжении столетий религиозное благословение узаконивало и
увековечивало вынужденное сожительство, унизительную зависимость,
обменные операции, деловые соглашения, неприглядные сделки
купли-продажи человеческих судеб под видом брачного единения. Правила
соблюдены, правовые рамки не нарушены. Но за безупречной видимостью
кроется ужасающая дикость угнетения, хладнокровного насилия либо
трясина вежливого безразличия – самое опустошительное из одиночеств.
Конечно, за религиозной завесой естественного установления может
скрываться и определенное сочувствие к человеку, к его беспомощности и
немощи. Хрупкие люди, неспособные выжить в одиночку, беспомощные в своих
социальных отношениях, проигрывающие во всех столкновениях или
невзрачные видом, обретают в условности брака утешительный приют,
лекарство от одиночества и защиту.
Но и в пустыне порой случается дождь и нежданно прорастают цветы. Даже
в самой откровенной брачной сделке вдруг может зародиться и постепенно
вырасти, подобно сталактитам и сталагмитам, взаимное стихийное доверие,
бережная нежность и, наконец, страстная любовь – эта чудесная роза
целомудренной самоотдачи. Но, как мы часто наблюдаем в жизни, возможно и
обратное: любовь, вначале пьянившая обоих своими неодолимыми чарами, со
временем увядает и незаметно тонет в болоте серой обыденности.
Поэт говорит: три белых леопарда притаились в наших членах, в сердце и
в печени и пожирают нашу плоть. Вожделение, тревога и чувственность
своей ненасытностью истощают нашу жизнь до мозга костей, оставляя от нее
лишь сухой остов. Сын Человеческий, оживет ли этот остов? Заструятся ли
соки любви в том, кто иссушен ненасытной самодостаточностью; расцветет
ли вновь «таинство» в цивилизации трусливой немощи? Госпожа лилий,
Церковь откровений жизни, гонима в пустыне, и в ответ на слова ее
кругом раздается только бряцанье сухих костей идеологем, эмоциональных
«убеждений», мертвого морализма.
Пустынническое слово откровений жизни называет природное установление
брака образом смерти и возвещает победу над смертью: преображение
естества в отношение, брака – в любовь. Живительные порывы ветра над
мертвым полем несут весть надежды: Вот, вложу в вас дух жизни, и придам
вам жилы, и возведу на вас плоть, и обтяну вас кожею, и вдохну в вас
дыхание мое, и оживете.
Выход навстречу созерцанию реальности Церковь называет таинством. У него
нет ничего общего с религиозным благословением природного установления,
с узаконением половых отношений. Таинство есть посвящение в близость
надежды, радостное отплытие навстречу познанию реальной жизни. Словами
не исчерпать таинства, чувственными описаниями не уловить.
Смерть не может быть путем к жизни, а естественный институт брака –
проводником к любви. Прикосновение к жизни есть таинство благодати, дар
предания себя пылкому Жениху – тому, кто воскрешает мертвых. Мы говорим
о таинстве лишь условно, продвигаясь по лезвию ножа между природой и
отношением, смертностью и благодатью.
«Ты говорил о вещах, которых они не видели, и они смеялись». Но и сами
они говорили о благоухании, о сладости, о музыке, об улыбке, о свете во
взгляде. Они говорили о Вселенной: она конечна, но не имеет границ; она
расширяется со скоростью света в не-пространство, потому что
пространство и время порождаются только присутствием материи. Они
говорили о десятимерном пространстве, о неопределенной топологии,
открытой в безместности, о внепространственном присутствии и об
искривленном пространстве-времени. И не смеялись. Только над таинством
они насмехались, довольствуясь эмоциональной убежденностью.
Светоносные сыны живого опыта свидетельствуют против хронической,
вековой робости. Ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и
возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам, о
том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с
нами; а наше общение – с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом. И сие пишем
вам, чтобы радость ваша была совершенна (1Ин 1:2—4). Воистину блаженные,
только радость в вашем свидетельстве, пробивающемся сквозь столетия.
Таинство увековечивает радость живого опыта, свидетельствуя о способе
жизни, побеждающей смерть. Способ бытия, воплощенный в личности Христа,
есть способ общения с Отцом бытия. Общение с Отцом – не
фрагментарность, но полнота жизни, образ всякого отношения. Он
проявляется в том, что Сын воспринял природу человека: Возлюбил… и
предал Себя за нее (Еф 5:25). Он отрекся от всех желаний жизни и от
существования, отделенного от воспринятых Им жизни и существования
человеческой природы: уничижил Себя (Фил 2:7). Кенозис ради естества
есть откровение живого общения с Отцом, способ жизни. Став смертной
природой, Христос Сам предал Себя смерти. Его самопредание – вплоть до
смерти – границам естества опрокидывает эти границы, одолевает смерть.
Его абсолютное отречение от всех притязаний на само-жизнь и само-бытие
освобождает природу от тленной самодостаточности, наделяет ее бытием по
образу бессмертия. Безмерность любви даруется в осязаемой близости
исторической плоти, а не в причудливых изломах воображения. Как я
существую в качестве человека, по сущности, а не по воображению, – так и
Бог, мне в дар, стал естеством, соединившимся со мною.
Церковное таинство брака есть выход навстречу соприкосновению с жизнью.
Таинство – потому что ведет его радость, дар воздаяния. Жених ведет к
абсолютному отречению от любых притязаний. И тогда способ благодатной
жизни непосредственно определяет брачные отношения между людьми. Способ
воздаяния, как его воплощает в Себе Жених: Мужья, любите своих жен, как
и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее… Жены, повинуйтесь
своим мужьям… как Церковь повинуется Христу… Тайна сия велика; я говорю
по отношению ко Христу и к Церкви (Еф 5:22—27, 32).
В цивилизации чувственности, которая гонится за предпочтениями,
таинство живительной смерти кажется всего лишь парадоксом. Павел
говорит, и люди смеются: жена да убоится мужа. «Равенство полов», точно
выверенное равновесие прав и обязанностей, взаимность ответственности
за каждый шаг уже стали эмоциональными убеждениями. Мы уже не
догадываемся, что Павел требует большего: того отношения, где один
отдает себя безоглядно и безмерно, а другой подчиняется отдавшему себя –
подчиняется с благоговейным страхом, какой рождается от обладания
драгоценным даром. Кто покажет этим добровольным слепцам, что там, в
способе отношения, являет себя истинная любовь и побеждается смерть!
17. Dissonantia
Что лилия между тернами…
Со мною иди с Ливана, невеста!..
От логовищ львиных, от гор барсовых.
Природа ловко играет в одну игру с бессознательным, пряча корысть в том
числе под видом добродетели. Поэтому в блистании добродетели так часто
проглядывают холодные переливы нарциссизма. «Собака сладострастия
хорошо умеет просить духа, когда ей не дают плоти».
Сладострастие природы облекается в высокомерие добродетели, которое
мрачнее змеиного извива инстинкта и опаснее биологической потребности.
Оно улавливает похоть еще в преддверии замкнутой в себе
самодостаточности, сдавливая в своих кольцах прекрасное дитя нужды –
смирение. Оно преграждает путь любым проявлениям нежности, радуясь
смертоносным пространствам пустыни эгоизма.
Самодостаточность природы достигает апогея в функции увековечения; быть
может, поэтому и телесное совокупление доставляет величайшее физическое
наслаждение. Апогей самоконтроля природы – добродетель; вероятно, потому
она и доставляет высочайшее наслаждение нарциссической
самогарантированности.
Наслаждение добродетелью тем полнее, чем определеннее и четче
самоконтроль природы; а самоконтроль тем легче, чем фанатичнее
пренебрежение плотью. Атака ума и воли на притязания инстинкта черпает
наступательную силу в том, что обесценивает материальное, чувственное.
Плоть означает нечто нечистое, дурное – грязный прах, который нас
пятнает, бесчестит. Мы ведем с плотью сражение, добычей в котором
становится право высоко ценить самих себя, свое сокровенное внутреннее
«я».
На языке жизненных откровений слово плоть означает не только и не
столько тело с его влечениями, сколько душу и тело в их мятежном
стремлении отстоять собственные природные притязания. Плоть в своих
властных требованиях артикулирует стремление природы существовать
собственными силами, ограничить существование собой, чтобы не
обращаться к благодати запредельного ей призыва, к способу отношения.
Таким образом, плоть есть противоположность смирения, антипод любви, а
самовлюбленный блеск добродетели – абсолютно плотское вожделение к
самому себе.
Стремление плоти увековечить природу есть стремление плотского «я»
господствовать в бытии. Кто ведет и кто ведом – не различить в плотном
тумане бессознательного. Более того, субъект загадочным образом касается
глубинных слоев многовековых коллективных сублимаций. Тени манихеев,
энкратитов, пуритан тускло мерцают во тьме субъективного
бессознательного. Они источают презрение к телу и его влечениям, зато
холят свое «я» и его воображаемые пристрастия.
Риторические маски изобличают притязания плоти на суверенную «чистоту»
и «целомудрие», истекая ядом насмешек над телом и любовью. Хор
служителей закона, стоя на котурнах, поет самому себе хвалебные песни в
честь победы над естеством: бесконечный стасим трагедии добродетели.
Однако опыт крайней аскезы предупреждает: победить собственное естество
человеку невозможно.
Природа не может быть побеждена тем, кто хочет упразднить собственное
естество. Природа упраздняется только в отношении, вытесняясь
благодатью; причем природе врождено стремление к ответному дару:
«любовная сила», заключенная в прахе.
Вскормленная добродетелью самоуверенность естества противоборствует
вложенной в естество любовной силе. Тварь способна отобразить в себе
Творца, и эта способность есть дар. Но насмешка над плотью закрывает
нам глаза на этот дар; она чернит желание, делает бесполезным вложенное
в плоть влечение к нетварному.
Без силы желания не существует вожделения, усовершение которого –
любовь. Ибо страстно любить что-либо есть свойство желания. Без
раздражительной силы, побуждающей желание к соединению с тем, что
приносит наслаждение, обычно не обрести мира – если только мир поистине
заключен в безмятежном и всецелом обладании желанным.
Желанию противостоит самодостаточность, любви – себялюбие: замкнутость
в глиняном сосуде воображаемого сверх-Я – удостоверенной моральности,
признанной духовности, безупречной репутации. Желание – вина,
вожделение – зараза, эрос – грязь. Ничто не задевает раздражительной
части души, дабы она раскрылась в своей устремленности. Ничто не чарует
глаз, дабы они распахнулись в благодарном изумлении. Для запертой за
семью печатями самоуверенности «ревнителей чистоты» даже брак есть
соитие без любви, терпимое только ради осознанной необходимости
деторождения и только этой своей узаконенной целесообразностью отличное
от столь же чуждого любви соития в блуде.
Адское мучение будет в том, что мы окажемся бессильны в Лице Жениха и
Возлюбленного наших душ узнать Христа. Даже Его чудесное Пришествие не
сумеет нас убедить, как чудеса не убедили книжников и фарисеев. Если для
нас первее всего Закон и мера определяемой им «чистоты», то мы не узнаем
Его. Им не может быть тот, кто открывает объятия нечистым: мытарям,
блудницам, распутникам, разбойникам. Мы потратили целую жизнь на
изучение и соблюдение Закона, а Он теперь принимает с любовью
мерзостных преступников, ничтожеств, изгоев. Вот человек, который ест и
пьет вино, друг мытарей и грешников. Это не Судия, которого мы ждем и
который воздаст нам за лишения и труды; не правосудный Бог. Это Жених и
Возлюбленный, а значит – демон: ведь «природа любви демонична».
Так начинается ад. Мы ждем того, кто не придет, всё глубже погружаясь в
отчаяние безнадежного ожидания и не замечая присутствия, близости Жениха
в его любовной самоотдаче.
На протяжении столетий Церковь сражалась против гностиков, манихеев,
монофизитов, энкратитов, иконоборцев, павликиан, богомилов, катаров,
пиетистов, пуритан; боролась с теми, кто «гнушался брака», кто
«воздерживался от вина и мяса по причине гнушения». Она извергала из
своего тела «соблюдающих девство и гордящихся перед сочетавшимися
браком», «хулящих брак и мужнюю жену», «не желающих принимать
божественное причастие от пресвитера, состоящего в брачном общении».
Однако враждебность к телу и любви – не то учение, которому можно
противостоять рациональными доводами или каноническими взысканиями. Это
плод панического страха перед отсутствием психологической безопасности,
плод неосознанного, но неутолимого стремления к достоверной «чистоте».
Это мучительная потребность в оправдании накопившейся, но не изжитой
лишенности – лишенности жизни, горечи существования без общения,
неспособности раздать свою душу, «потерять» ее, чтобы «спасти». И эта
неспособность воспаляется агрессивностью: душа обращается против того,
чего не имеет, в надежде оправдать этим собственную недостачу,
«одухотворить» лишенность.
«Ведь собака сладострастия хорошо умеет просить духа, когда ей не дают
плоти».
18. Conclusion sur pedale de dominante
Царь, преданный наслаждениям.
Эрос – метафизика тела и плоть метафизики: жизнь, наполняющая пустую
оболочку понятий; чувственный нерв, соединяющий язык с кожей и плотью
реальности. Знаки сущего: природа и личность, сущность и ипостась,
инаковость и энергии. Отрываясь от опыта эроса, они повисают в
иллюзорности, как голые измышления. То же самое верно и в отношении
языка поэзии: в отрыве от яркости желания он превращается в абстрактную
словесную игру, никак не связанную с семантикой жизни.
Природа и запредельное природе. Общая «материя» влечения, телесного
желания, темной потребности в биологической разрядке. По ту сторону –
неизъяснимость зова, свет во взгляде, в улыбке, в грации движений;
желание присутствия, изумление перед инаковостью. Двойственные пределы
физического и метафизического, безличного и личностного. Где-то там
прочерчивается самое изначальное и существенное, удостоверяющее
реальность, – жизнь и смерть.
Мы неосознанно выстраиваем знание, питая соками своей плоти и души
изящно выписанные определения физики и метафизики. Не поддающаяся
определениям уникальность личности регистрируется в грамматике истории
как безличный факт. Целые столетия мы блуждали в «наклонениях» плоти,
чтобы изучить свое безличное естество в древнейшем институте
проституции, в универсальной фонетике ненасытного самоэротизма. Но песни
любви, неискоренимые в народах и языках, вносят поправки, говоря о чуде
взаимности и о личностной инаковости.
Природа высказывает себя в стремлении к увековечению. Жар тела, слепая
мучительная потребность, не связанная с желанием взаимности, с влечением
к нареченному Другому. Жажда странника в пустыне, лютый голод много
дней лишенного пищи. Неутолимая похоть не ищет отношения, беседы,
нежности и ласки. Она добивается телесной разрядки, и более ничего. Лишь
бы удовлетворить нужду, разрядить мучительное напряжение животного
позыва. Любым путем.
Эрос от естества и ради естества: самоэротизм природы, ее эротическая
самодостаточность. Природа хочет сама артикулировать подлинную жизнь,
чтобы записать любовь в разряд саможивущего, смертного. Половая
потребность увековечивает природу, но не личность. Наше индивидуальное
существо значимо для природы лишь постольку, поскольку оно предоставляет
генетический материал для ее собственного увековечения – безличного
превосхождения над личностным бытием, которое субстантивирует ее.
Природа увековечивается нескончаемой чередой смертных индивидов,
отождествляется с выживанием безличного и безразличного, со смертью
уникального и неповторимого.
Природа и запредельное природе – личностная инаковость: царь, преданный
наслаждениям. Золотые отсветы в ловушке самоэротизма природы; золотая
паутина, в которой бьется любовь вечной жизни. Лишь откровение способно
разорвать эту разукрашенную сеть, вывести желание на просторы вечности
и бесконечности, претворить взаимность в кенозис самоотдачи,
ослепление образом – в восхождение к прообразу.
Прообраз любви заключен в живительном откровении Троичной полноты
жизни. Здесь природа мыслится нетварной, ибо она содержит в себе причину
собственного бытия. Поразительно в откровении то, что оно связывает
истинную жизнь не с нетварностью «природы», а с личностным способом
бытия, гипостазирующем природу. Бессмертие Лиц не навязано «природой»,
подлинная жизнь не есть необходимая природная предопределенность.
Напротив, личностная свобода гипостазирует природу как эротическое
самопревосхождение. Именно непротяженное эротическое пространство
личного общения образует подлинную жизнь, являет нетварность «природы».
Отдавая себе отчет в недостаточности языковой семантики и в
необходимости живого опыта эротического откровения, скажем: подлинная
жизнь заключена в способе бытия, а не в «природе». «Природа» отнюдь не
разделяется на Лица, раздавая им бессмертие как природное свойство, а
Лица не деградируют до безосновных «внутриприродных» отношений. Каждое
Лицо гипостазирует общую «природу» по способу кенозиса, совлекаясь
любого «естественного» самозакония и самобытия. По способу любви.
Каждое проявление жизненного откровения – вызов, требующий
эмпирического подтверждения внутри и вне относительных пределов языка.
Иисус Христос, историческая плоть откровения, освобождает человеческую
природу от рабства смерти, гипостазируя эту самую природу по способу
подлинной жизни, по способу эроса, свободного от природы. Иисус
рождается от Девы, то есть гипостазирует природу, не подчиняясь способу
бытия естества, сексуальному влечению, увековечивающему смерть. Таким
образом, в Лице Христа человеческое естество становится субстанцией
жизни, свободной от потребности в самоэротизме, присущей естеству.
Человек становится Логосом в соответствии с тем способом, каким
бытийствует Бог: способом любви.
Воплощенный Логос всецело совлекается божественности, до конца принимая
природу человека, становясь ее Женихом, в плоть едину. Совлекаясь
божественности, Он не перестает быть Богом, потому что способ
божественного бытия есть именно кенозис любви. Воплощаясь, Логос
делается не просто «высшим» человеком, но само воплощение Его
запечатлевает в естестве способ бытия божественности. Совершенный Бог и
совершенный человек, Он не «смешивает» количественно две природы, но
гипостазирует в способе бытия Логоса бытийные возможности обеих
природ.
Друзья Жениха всегда видели в Деве венец бытийных возможностей
человека: ведь она наделила существованием жизнь не по способу естества,
а по способу любви, свободно подчинившись безумной любви Бога к
человеку. Это подчинение – не нравственное, то есть природное,
свершение, но личное претворение эротических способностей природы в
любовь, свободную от предписаний природы. Поэтому на языке тех, кто
любит жизнь, Невеста и после рождения остается Девой. Ее девственность
определяется не биологическим фактом, не отказом от половых отношений:
она есть подвиг освобождения эротических сил природы от природного
самоэротизма, от стремления к увековечению. Отречение от физического
желания и предание себя желанию Бога есть красота, исполненная любви к
Жениху и являющая Его безумную любовь к нашей всецелой природе,
воплощенной в лице Девы.
Самоэротизм природы есть порождение смерти, а то, что по ту сторону
природы, – победа любви над смертью. Чада века сего женятся и выходят
замуж; а сподобившиеся достигнуть того века и воскресения из мертвых ни
женятся, ни замуж не выходят, и умереть уже не могут, ибо они равны
Ангелам и суть сыны Божий, будучи сынами воскресения (Лк 20:34-36).
Причинный союз ибо, вводящий третье высказывание в этом отрывке,
проливает свет на сопряженность половых отношений со смертью: в «том
веке» брачных отношений нет, ибо нет вероятности смерти. В той мере, в
какой смерть теснит природу, природа вынуждена выживать за счет своей
сексуальной способности. Это не значит, будто достаточно сдержать или
устранить половое влечение, чтобы победить смерть. Но когда смерть
побеждена, слияние полов становится излишним.
Эсхатологическая перспектива не оправдывает, однако, близорукой
наивности моралистов. Они верят, что смогут победить смерть, презирая
половые отношения или в одиночку убегая от них. Но в эсхатологической
перспективе смерть побеждается только смертью, и начало этой победе –
Жених, смертью смерть поправший. Нужно отречься от тщеславия само-жизни
и смиренно принять смерть, тем самым ответив согласием на любовь
Восставляющего мертвых.
Христиане живут в городах, кому где случилось, не отличасъ от прочих
людей ни землей, ни речью, ни обычаем; участвуют во всём и вступают в
брак, как все. Единственное их отличие – мольба к Восставляющему
мертвых: Подвигни во мне разумение смирения Твоего, да приму с радостью
смирение естества моего. Вот это «с радостью»— есть глубокое ущелье, по
краю которого мы ходим. Принятие смерти, претворенное в любовь.
19. Те Deum
Голубица моя в ущелий скалы под кровом утеса!
Покажи мне лице твое.
Unreal City
Under the brown fog of a winter dawn
A crowd flowed over the London Bridge, so many
I had not thought death had undone, so many(3).
Толпа потоком течет по Лондонскому мосту – столь многие. Парижские
бульвары и люди-муравьи, снующие туда и обратно у муравейника метро.
Столь многие. Еще одна шумная человеческая река – проспекты Токио. На
стадионах в Лос-Анджелесе во время матча регби толпа пестрым ковром
покрывает их трибуны, словно трава – весенние луга. Затем, вырвавшись на
свободу, этот человеческий поток выплескивается на улицы. Так же, по
гудку сирены, выливается многомиллионная толпа рабочих с фабрик Осаки,
Кёльна, Торонто.
Они спешат. Выгадать день, протянуть месяц, прожить год. Человеческие
жизни, словно песчинки, ссыпающиеся в песочных часах, чтобы кануть в
смерть.
«Нереальный город».
Скопления многоэтажных домов, напоминающих осиные гнезда; лабиринты их
чрева. Коридоры, лифты, лестничные площадки. Где-то там, внутри, одна из
дверей – наша. Вот она захлопывается у нас за спиной, определяя и
ограждая пространство нашей частной жизни. Мы накрываем стол, открываем
бутылку вина, занимаемся любовью. Сколько-то лет живем иллюзией
вечности, безмятежной длительности. А песочные часы смерти отсчитывают
секунды, месяцы, годы.
Столетие – кратчайший миг, которым измеряется ход времени на страницах
школьного учебника истории. Но пройдет столетие – и никого из нас не
останется. Всегда будет бурлить толпа на Лондонском мосту, в подземке
Парижа, на проспектах Токио, стадионах Лос-Анджелеса, фабриках Осаки,
Кёльна, Торонто. Бесчисленные светлячки окон будут вспыхивать и гаснуть
в осиных гнездах многоэтажек. Кто-то будет накрывать стол, откупоривать
бутылку вина, заниматься любовью. Но то будут «другие», не мы. Как
«другим» было людское множество прежде нас.
Каждый человек – неповторимый взгляд, неповторимая улыбка. Он говорит,
думает, любит, как никто другой – ни до, ни после него. Он поет о любви
над морем, бросается в волны, играя телесной силой; взбирается на скалу,
любуется закатом, слушает шум прибоя. Он впитывает настоящее с такой
беззаботностью, словно будет жить вечно. Не думая о смерти, которая
скосит его; не думая об измене плоти, которая с каждым днем увядает и
когда-нибудь сгинет в земле.
Загорелый мальчишка, с гибким газельим телом и выгоревшими ресницами,
что общего у тебя с тобой завтрашним – стариком, едва плетущимся на
непослушных ногах, согнутым, хилым, тускло глядящим из-под дряблых век?
И ты, благоухающая свежестью девчушка, трепетная, быстрая и сильная, –
где твоя сияющая кожа, лучистый взгляд, упругая грудь, блестящие
волосы, которыми играет ветер? Откуда эта увядшая, желтая старушечья
плоть, скрюченные суставы, почерневшие вены, стесненное дыхание? Каково
наше подлинное «я», наше настоящее лицо! Когда и где воплощается наша
истинная самотождественность, в чем «сердцевина» нашего существа,
действительный «субъект» и красоты, и тления?
Каждая горсть земли – горсть смерти. Увядшие розовые лепестки, угасшие
глаза, замерший трепет некогда прекрасной плоти, рассыпавшиеся кости
птиц, зверей, людей. Сколько неповторимых жизней, канувших в этой
неизменной и безразличной земле, в ее ненасытном зеве, который ждет нас
всех. Земля – осязаемая смерть; запредельное – неосязаемая надежда.
Как я предался тлению, как сочетался со смертью?
Мы кружимся в пустоте, пытаясь понять непостижимую тайну смерти.
Бесчисленные галактики вокруг нас и вдали от нас, звезды – словно песок
на морском берегу. Мертвые миры, не знающие улыбки цветов, песен птиц,
красок заката. Пара человеческих глаз и мысль, таимая за удивленным
взглядом, – «другая», незримая Вселенная. И в этой «другой» Вселенной мы
ищем разгадку смерти. Мертвые миры галактик не знают смерти, и только
на нашей крошечной планете, где бурлит жизнь, смертью насыщена каждая
горсть земли.
Что означает единственность Земли в безграничной Вселенной; что означает
единственность каждого человека в бесконечной смене поколений?
Доисторические люди, обитатели пещер, охотники каменного века: сколько
было в них животного инстинкта, а сколько – личностной инаковости,
запечатленной в их облике? А племена каннибалов, еще и сегодня
живущих, – обнаженных, звероподобных, покрытых татуировкой, с
деформированными лицами, кольцами в носу и ушах, свисающих до плеч? А
дауны, тяжелые олигофрены, потерявшие человеческий облик
душевнобольные, шизофреники, впавшие в маразм старики? А еще – десятки
умерщвленных эмбрионов, бесчисленные оплодотворенные яйцеклетки,
извергнутые из материнской утробы прежде, чем забьется сердце зародыша?
Кто принимает решение, кому принадлежит неумолимый выбор: природе или
Богу? Кто определяет границу между человеком и нечеловеком,
действительностью и возможностью, актуально данным и потенциальным?
Наше мышление не в состоянии постигнуть личностный характер человека
невоплощенным – вне разума, речи, способности суждения, воображения,
воли, внешней деятельности, – точно так же, как оно не в состоянии
постигнуть бытие вне пространства, времени и числа. В каком мысленном
образе мы выразим существование человека после смерти, личностную
инаковость вне энергий тела и души? Что означает существование сверх
определенного «где»; как обретают бессмертие «все люди», и кто эти
«все», коль скоро мы не знаем разницы между оплодотворенной яйцеклеткой
и сознательной личностью, между сознательной личностью и человеком с
врожденной паранойей или слабоумием?
Мы изучили состав атомного ядра, структуру ДНК, природу света, набор
химических элементов в самых отдаленных галактиках. Но не умеем
определить ни начальной, ни конечной границы человеческого субъекта,
нашего собственного «я».
Мы ищем разгадку нашего бытия, тайны жизни и смерти, как черви ищут
грязь после дождя: вслепую, в предустановленных и непреодолимых
границах. Мысль и слово доставляют нам только иллюзорные знания,
притчи, аллегории, образы, видимые через тусклое стекло, гадательно. Мы
хватаемся за опыт других людей – тех, кто свидетельствует, что видел
Бога, говорил с Ним. И объективируем этот неизреченный опыт в
неопровержимых понятиях, на которых держится наша логика, чтобы
выстроить на ней крепость психологической самодостаточности,
обороняющую нас от панического страха.
Где мирские устремления? Где недолговечные мечтания? Всё прах, всё
пепел, всё тень.
Быть может, есть «другое» знание – там, где кончается достоверность.
Быть может, более надежное знание начинается там, где всё становится
прахом, пеплом и тенью.
O dark dark dark. They all go into the dark,
The vacant interstellar spaces, the vacant into the vacant.
1 said to my soul, be still, and let the dark come upon you
Which shall be the darkness of God(4).
И тогда он твердит, как бы вне себя: кто был той причиной, которая
вначале создала этот мир, и распространила его, и наполнила его великим
множеством видов и природ, и утвердила в нем причины, и плоти, и
борения многих страстей ? И почему Он сперва поместил нас в этот мир и
утвердил в нас любовь ко многой жизни в нем, а потом внезапно, через
смерть, исторгает из него и сохраняет немалое время в бесчувственной
неподвижности, и разрушает наш облик, и растворяет состав нашего тела, и
смешивает его с землей, и попускает нашему устроению распасться, и
раствориться, и разложиться, пока оно не уничтожится совсем?
Есть только одна возможность сомневаться и одновременно доверять, и эту
возможность мы проверяем в любви. Любовь означает веру, доверие,
самоотдачу. Ты пребываешь во тьме бесконечных вопросов, на которые нет
ответа; но забываешь себя в желании – и оно дает тебе уверенность в
том, что Другой желает твоего желания. И тогда все вопросы разрешаются
без ответов. Означаемое действует без означающего. Есть только язык
приношения, язык желания. Язык младенца, припавшего к материнской
груди; язык влюбленных, безмолвно слившихся в «единой плоти».
И вот, по этой причине он возносится в уме своем, в изумлении говоря:
зачем привел Он творение – это бесчисленное множество разных тварей – из
небытия к бытию ? И почему вновь хочет разрушить его – это чудное
благоустроение, и красоту природ, и стройный ход творений? Разрушить
смену часов и времен года, последовательность дней и ночей – эту меру
времени; уничтожить пестроту земных цветов, прекрасное устроение городов
с их дивными зданиями, и недолгий срок человека, его природу, немощную
от рождения и до кончины? И почему внезапно рушится этот чудный порядок,
и приходит иной век, и даже память о том, первом, творении не вспыхнет
ни в чьем сердце, и настанут другие перемены, и другие думы, и другие
забот?
Темнота этих вопросов рождена природным отстоянием человека от Бога.
Человек всегда отстоит от Бога – не по месту, но по природе. Именно наша
природа отводит нас от возможности найти ответы на эти вопросы. Поэтому
отрицание существования Бога и вечности человеческой личности – одно из
естественных состояний. Его можно понять. Превращение природного
отстояния в личное отношение есть подвиг самоотречения от естества,
подвиг любви.
Сколько же длится сей век? И когда начнется век будущий? И сколько
времени еще будут спать эти телесные обиталища в нынешнем образе и
смешиваться с землей? И как совершается этот переход, в каком образе
восстает и воссоединяется это естество, и как приходит во вторую тварь?
И вот, когда он пребывал в таком состоянии и вел такие речи, им овладело
изумление и глубокое молчание, так что он тотчас поднялся и преклонил
колена, и вознес, со многими подобающими слезами, благодарение и хвалу
Единому и Премудрому Богу, вечно прославляемому в Его премудрых делах.
Дар благодарения – вместо вопросов, оставшихся без ответа: за всё
ведомое и неведомое.
I said to my soul, be still, and wait without hope For hope would be
hope for the wrong thing; wait without love For love would be love for
the wrong thing; there is yet faith But the faith and the love and the
hope are all in the waiting. Wait without thought, for you are not ready
for thought: So the darkness shall be light, and the stillness the
dancing(5).
Словарь* OUVERTURE (открытие): музыкальная композиция для оркестра,
призванная ввести слушателя в атмосферу начинающегося произведения
(оперы, оратории и т. д.). Существуют увертюры и как самостоятельные
произведения – например, увертюра Бетховена к Эгмонту Гёте.
MODULATIO (изменение): смена музыкального ряда по ходу развития мелодии.
Простейший пример модуляции – переход от мажора к минору и наоборот, а
также переход в тональности доминанты и субдоминанты и параллельные к
ним минорные тональности.
APPOGGIATURA (полагание): диссонансный звук, не входящий в состав
аккорда, звучащий перед главным гармоническим звуком в качестве
вступления.
NOTES DE PASSAGE (проходящие звуки): звуки мелодии, не входящие в состав
аккордов и связующие два звука аккорда.
INTERVALLUM (музыкальный промежуток): разница между высотой двух звуков
либо соотношение между их долями. Лады, гаммы и аккорды определяются по
промежуткам между звуками, их составляющими.
DIVERTIMENTO (развлечение): «переходный» музыкальный отрывок, обычно
короткий, который вставляется между частями более крупного произведения
(например, между ариями оперы), чтобы заполнить паузу и удержать
внимание слушателя.
PROMENADE PARMILES TONS VOISINS (прохождение среди соседних тонов):
движение мелодии, ведущее к ее разрешению в тоническом аккорде –
основном аккорде тональности, в которой написан отрывок.
SCHERZO («шутка»): грациозное сочинение, написанное в трехдольном
размере. Может предпосылаться в сонате или симфонии менуэту или
представлять собой самостоятельное произведение.
STRETTO (тесное выведение): термин, относящийся к канону или фуге, когда
разные мелодические последовательности или голоса вводятся друг за
другом с небольшим временным промежутком, то есть прежде, чем закончит
звучать предыдущий голос.
EXPOSITION AU RELATIF: на протяжении изложения {экспозиции), то есть
начальной части фуги, последовательное воспроизведение всех голосов.
Тема вводится сначала как первый голос, в тонике; затем как второй
голос, в доминанте, откуда и получает название ответа; потом как третий
голос, снова в тонике, но на октаву выше или ниже; далее опять как
ответ; и т. д., пока не будет завершена вся экспозиция.
СОММА: очень малый музыкальный интервал, который возникает при
различении близких друг к другу звуков. Например, комма между
интервалами до-ре и ре-ми натурального звукоряда соответствует
соотношению долей 8/7 к 9/8 = 64/63. Пифагорова комма – разница между
большой терцией пифагорова строя и большой терцией чистого строя, или
между большим целым тоном и малым целым тоном. Если основной звук до,
тогда одна последовательность дает си#, а другая – до. Это соответствует
соотношению долей 2:3/2, или приблизительно 1:1,014.
CANTUS FIRMUS (устойчивое пение): музыкальная тема, которая служит
основой и связующим звеном в полифонической композиции. Она является не
основной мелодией, а скорее подспудной основой, ведущей нитью
произведения. Когда начала развиваться полифоническая музыка, церковные
песнопения, до тех пор исполнявшиеся одноголосно, стали проводиться
средними голосами, то есть тенорами (= «держащими», от teneo – держу,
лат.) в качестве cantus firmus (устойчивого пения), в то время как
остальные голоса развивались вокруг него.
RICERCARE (искать): термин употребляется как существительное и
относится к тому виду сложных полифонических композиций, где одна или
несколько тем развиваются в сжатом контрапункте, так что слушатель
вынужден «искать» тему или темы, чтобы узнать их в многоголосом
окружении.
REPRISE (повторение): музыкальный повтор главной части произведения,
чаще всего короткий и быстрый; преимущественно употребляется в качестве
интермеццо в сюитах.
IMITATION (подражание): объединяющая часть музыкальной композиции,
которая не является каноном сама по себе, но «подражает» канону,
воспроизводя музыкальную тему на различной тонической высоте.
INTERLUDE («между играми»): краткий музыкальный отрывок, который
вставляется между основными частями более крупного музыкального
произведения. В XVII-XVIII вв. интерлюдиями назывались краткие
музыкальные вставки в исполнении органа, которыми скреплялись псалмы и
гимны.
DISSONANTIA, DISSONANZA (неблагозвучие): созвучие, которое не вызывает
ощущения завершенности и успокоенности; или звук, принадлежащий к такому
дисгармоничному созвучию. Его восприятие порождает в нас желание
услышать «развязку» (resolutio) дисгармонии в гармоничном аккорде или
звуке.
CONCLUSION SUR PEDALE DE DOMINANTE (завершение на педали доминанты):
слово «педаль» идет от практики органного исполнительства и означает
удержание одной ноты, обычно тоники или доминанты, независимо от
аккордов, которые берутся в других голосах. В заключительной части фуги
«завершение на педали доминанты» означает, что, пока в последний раз
проводится тема, ответ и противосложение, удерживается доминанта.
ТЕ DEUM (Те Deum laudamus – Тебя, Бога, хвалим): хвалебный гимн. Многие
композиторы писали Те Deum в форме оратории, как сложные произведения,
с большим количеством музыкальных форм, в которые облекались отдельные
«песни» (canticles) гимна.
*Составил Александр Матей
Примечания 1. Букв, «перемена ума». Прим. пер.
2. «Видел я сатану, спадшего с неба, как молнию».
3. Нереальный Город.
Под коричневой мглой зимнего рассвета
Толпа текла потоком по Лондонскому мосту – столь многие.
Не думал я, что смерть сокрушила столь многих.
4. Тьма, тьма, тьма. Они все идут во тьму,
Пустые межзвездные пространства, пустые – в пустоту.
5. Я сказал моей душе: будь спокойна, и позволь опуститься на тебя тьме,
Которая будет божественной тьмой.
Я сказал моей душе: будь спокойна, и жди, не надеясь, ибо надежда
обманчива; жди без любви,
Ибо любовь обманчива; есть еще вера,
Но вера, любовь и надежда – они все в ожидании.
Жди без размышления, ибо ты не готова к размышлению.
Тогда тьма станет светом, а покой – танцем.
Яннарас Х.
Избранное: Личность и Эрос /
Пер. с греч. – М.: «Российская политическая энциклопедия», 2005.
Переводчик Вдовина Г.В.
Перевод с новогреческого выполнен по изданию:
Χρηστου Γιανναρα ΣΧΟΛΙΟ ΣΤΟ ΑΣΜΑ ΑΣΜΑΤΩΝ Δόμος Αθήνα 1995. |